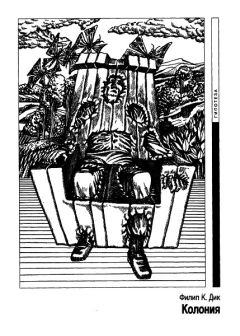— И нам повезло, гляди, сколько бумаг!
— Братцы, никак стенгазета?!
На траву выволокли рулон, развернули. Поверху красивым шрифтом было напечатано: «Стенгазета для крестьян» и чуть ниже крупно — «За новую родину». Одна-единственная заметка этой стенгазеты предписывала крестьянам сохранить колхозы, сообща свозить урожай и получать за работу, что назначит немец-хозяйствовед. За неповиновение хозяйствоведу — расстрел, за плохую работу — расстрел, за хождение в лес — расстрел. Красным карандашом Кузнецов подчеркнул слово «расстрел», повторявшееся в стенгазете шестнадцать раз, показал на стену крайней избы:
— Повесьте. Пусть все знают, какую «новую родину» несут фашисты.
Он подошел к избе, похлопал по холодным серым бревнам:
— Сюда вешайте.
Вдруг за углом услышал торопливый говорок:
— Угораздило же тебя. Больно?
— Терпимо.
— До свадьбы заживет.
— До чьей свадьбы, до нашей?
— Может быть.
— Гляди, на поле боя не шутят.
— До шуток ли.
— Жив останусь — свататься приду. Пойдешь?
— Выздоровеешь, орден получишь, тогда приходи — поговорим.
— Разговаривать-то и наши деревенские девки горазды...
Красноармеец сидел на земле, привалясь спиной к срубу, и молоденькая сестра, стоя на коленях, быстро перевязывала ему голову. Увидев командира полка, улыбнулась смущенно. Это была та самая медсестра, которую Кузнецов видел вместе с лейтенантом Юрковым.
— Не дай бог, как говорится, — сказал Кузнецов, — но если меня ранит, приходи перевязывать. Больно хорошо утешаешь.
— Обязательно, товарищ майор, — медсестра озорно блеснула глазами.
— Жених не приревнует?
— Он — мой муж.
— Давно?
— Во Владимире расписались. Как раз успели.
«А жизнь берет свое», — подумал Кузнецов. И засмеялся. И медсестра тоже засмеялась, показав свои белые, безупречно ровные зубы. И раненый боец сморщился в улыбке. Когда победа, для смеха так много причин.
Кузнецову вдруг вспомнилась старая глупая примета: много смеха — к слезам. И он помрачнел, обругав себя за то, что забылся, поддался радости первой победы, как рядовой боец. Холодно кивнув медсестре, пошел к мотоциклу.
...Штабная машина стояла, где и было предусмотрено, — на опушке, плотно укутанная ветками, похожая на большой куст.
— КП в деревню? — спросил начальник штаба.
Кузнецов раскинул свою планшетку, положив ее на крыло автомашины.
— Вот сюда.
Он нарисовал треугольник далеко впереди, там, где коричневые жилки теснились друг к другу, обозначая высоты.
...Их было человек пятнадцать. Вышли из леса и встали у канавы, размахивая белым флагом.
— Ага, припекло! — обрадованно говорили бойцы, поднимаясь с земли.
Лейтенант Юрков встал, отряхнул колени, поправил гимнастерку, все-таки парламентер, и пошел к немцам, спрятав пистолет в кобуру. И весь взвод пошел за ним, все больше сминая цепь. Ни у кого не было ни страха, ни подозрительности, только доброжелательное любопытство. Когда опасность минует, проходит и злость.
Когда подошли метров на тридцать, немцы все разом упали в канаву и открыли огонь из автоматов...
Юрков плакал, рассказывая об этом командиру полка, плакал от обиды за собственный промах, от жалости к людям, которых он сам подвел под пули, от кипевшей в нем запоздалой злости.
— Отдайте меня под суд, отправьте в штрафной, — говорил он. И тут же недоуменно спрашивал: — Если сдаются, стрелять их, что ли?
Непонятно, как он уцелел в том шквале огня. Семнадцать убитых — такова плата за ошибку. А Юрков не был даже ранен. «Чудесное спасение» привлекло внимание особиста, заставившего лейтенанта подробно рисовать, где были немцы в тот момент, где каждый боец взвода и где он сам. Кузнецов понимал, зачем это нужно. Если окажется, что Юрков находился чуть в стороне, то долго ли предположить, что по нему вообще не стреляли.
— Возьмите себя в руки. Идите во взвод.
Юрков удивленно посмотрел на него.
— Идите во взвод, — повторил Кузнецов. — Если в подразделении остается даже один человек, он продолжает выполнять задачу. Идите и расскажите о вероломстве врагов.
Он сам готов был говорить и говорить о коварных повадках фашистов, чтобы скорей поняли бойцы, что перед ними не просто противник, а зверь, способный на любую жестокость, чтобы научились быть хитрыми, недоверчивыми, беспощадными.
— Что же вы? Идите, — повторил комиссар, видя, что Юрков все еще мнется. И медленно, весомо, отделяя каждое слово, добавил, обращаясь к командиру полка: — Мы из этого сделаем выводы.
Представитель особого отдела, бравый лейтенант, по молодости лет прямолинейный и непримиримый, недоуменно смотрел на старших начальников.
— Мы все сейчас, как ученики, — сказал Кузнецов, поняв его взгляд. — Много еще будет крови и ошибок, пока научимся воевать.
— У кого? У наших врагов?
Кузнецов промолчал, нахмурившись.
— Считаю своим долгом доложить, — не унимался лейтенант. — По мнению разведчиков первого батальона, трофейное оружие лучше нашего.
— Кто это сказал?
— И так видно. Они не сдали немецкие автоматы.
— Я проверю, — сказал Кузнецов. — Отложим этот разговор.
— До каких пор?
— Сейчас не до разговоров.
И, словно подтверждая его слова, издали донесся истошный крик:
— Во-озду-ух!
Самолеты ходили кругами, то удаляясь, то повисая над самой головой, и все сыпали, сыпали черные капли бомб. Потом к глухим разрывам прибавился резкий сухой треск, и Кузнецов понял: мины. Значит, немцы сосредоточились где-то близко?
Кузнецов разослал посыльных с приказом быть готовыми отразить контратаку врага и держаться во что бы то ни стало. С опушки он увидел медсестру Астафьеву, бегущую через поле. Она кидалась в дымящиеся воронки.
— Куда? — кричали ей. — Стреляют же!
Выплевывая землю, она добродушно отвечала:
— Где теперь не стреляют? Война ведь, разве не знаете?
Больше Кузнецов ничего не слышал. Вихрь огня всплеснулся перед глазами и закрутил, понес куда-то, словно сухой лист, сорванный осенним ветром...
А потом он услышал свист, тихий и ровный. С трудом приоткрыл глаза, увидел беспомощно повисшую, подрубленную верхушку березы и голые оборванные ветки.
«Куда прячутся птицы во время бомбежки?» — подумал он, оглядывая дерево.
— Очнулся! — сказал кто-то над ним и вздохнул так облегченно, словно до этого совсем не дышал, ждал.
Кузнецов скосил глаза, увидел полосатое от слез лицо медсестры Астафьевой.
— Не надо плакать... Всех жалеть — сердце разорвется... — сказал он словами своей матери — такой же печальницы за всех близких и неблизких ей людей.
— Потерпите, товарищ майор, сейчас машину подадут.
— Помогите... встать.
Он поднялся и потряс головой, чтобы прогнать муть, застилавшую глаза.
— Что у меня?
— Плечо. Осколок большой был. Это ничего, больно только, а так ничего. Месяц полечитесь — все пройдет, — торопливо говорила медсестра.
Кузнецов удивленно посмотрел на нее.
— Вы идите, Астафьева, работы у вас сегодня много...
Где-то за лесом разом ударили пулеметы, посыпались разрозненные винтовочные выстрелы и, словно огрызаясь, коротко и часто захрипели автоматные очереди. Молотами застучали взрывы гранат. И вдруг все стихло. Издали доносился только приглушенный расстоянием гул, похожий на стон.
— В штыки пошли. Гонят немца, раз автоматов не слыхать. А то бы...
Сознание вдруг обожгла мысль, что там идет бой, а он здесь со своей пустяковой раной.
— Где комиссар?
— Там.
— Начальник штаба?
— Тоже там.
Мотоцикл долго колесил по изрытому минами полю, догоняя шум боя. Батальоны, отразив контратаку, погнали гитлеровцев дальше, сбивая мелкие заслоны, не останавливаясь, опьяненные успехом.
Навстречу вразброд шли легкораненые, сверкали на солнце ослепительно белыми повязками, виновато улыбались командиру полка. Обогнув небольшой лесок, Кузнецов увидел скачущего навстречу всадника. Это был связной от первого батальона. Лихо вздыбив коня перед мотоциклом, он соскочил и шагнул к коляске, чистый и аккуратный, как на учениях, — ремешок фуражки под подбородок, пряжка ремня натерта до блеска. Он доложил, что батальон попал под неожиданно сильный огонь и залег.
— Где? — спросил Кузнецов, раскидывая планшетку с картой.
— Здесь, — связной уверенно показал коричневые зубчики небольшого овражка.
— Окопаться и ждать приказаний.
Конь потянулся губами к планшетке, уронил на карту клок пены.
— Извините, товарищ майор, он у меня такой любопытный.
Связной стал разворачивать коня, и Кузнецов не удержался, потрепал здоровой рукой вздрогнувшую скользкую шерстку, почувствовав вдруг острое желание самому вскочить в седло, помчаться без мотоциклетного треска, чтоб только стук копытный да ветер в ушах. Еще раз протянул руку, но уже не достал быстро отступившего коня...
Привыкшие к закономерностям в жизни, люди невольно ищут их и в смерти. Так рождается на фронте вера в приметы, в предчувствия. Никто в тот миг не обратил внимания на жест командира полка, на его руку, не доставшую коня. Но все запоминается. Уже через несколько дней бойцы начнут говорить об этом, как об особой проникновенности чувств, толкнувшей его к последней ласке. «Он как бы хотел проститься», — скажут бойцы. И осудят связного, поспешившего увести коня...