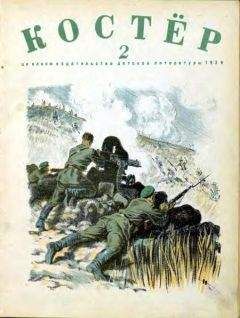— Ничейная? — спросил дежурный офицер и на наших глазах разбил бутылку.
Гришка не шелохнулся. Глазом не моргнул. Мы стояли как оплеванные.
— Так…
Дежурный офицер внимательно посмотрел на каждого из нас.
— Я вас наказываю, старшина Воробьев, — сказал он нашему сигнальщику. — Ваше увольнение на берег отменяю. За то, что водку пытались пронести.
Мы только что из похода вернулись. Первое увольнение на берег было. Воробьева девчонка на берегу ждала…
После такого решения дежурного офицера мы в кубрике собрались. Серьезный разговор в кубрике пошел, вроде крутой волны.
— Почему я должен раскалываться! — кричал Гришка и спрашивал: — Где же взаимовыручка?
— А как тебя понять? — тоже спрашивал и тоже на крик штурманский электрик Лосев. — Почему за тебя должен страдать Воробьев?
— Страдальца нашел! — упирался на своем Боев. — Воробьев раз не сходит на берег, и дело с концом. Мне все припомнят! Я на особой заметке! Трудно, что ли, понять!
Не укладывались в моей голове Гришкины слова, но что-то в них было. Я по себе знал, если человек на особой заметке, с него двойной спрос. Надо было что-то предпринять, отвести удар от Воробьева и в то же время выгородить этого Боева. Тогда я и решился взять вину на себя. Встал, молча вышел из кубрика.
— Разрешите, товарищ лейтенант? — обратился я к дежурному офицеру.
— Да, юнга, в чем дело?
— Я это… сознаться пришел.
— В чем?
— В общем… Я водку хотел пронести.
— Почему не сознались сразу?
— Не знаю… Испугался…
— Трусость — порок, — сказал лейтенант. — Для моряка двойной порок.
Он стал говорить о дисциплине, об ответственности каждого за чистое имя корабля, дивизиона. Говорил долго. Потом отпустил меня. Пообещал обо всем доложить нашему непосредственному начальству. А чуть позже и вовсе глупость произошла. Следом за мной у дежурного офицера побывали все наши гребцы, кроме Боева, каждый взял проступок на себя. Вся эта история на следующий же день дошла до замполита. Крутов вызвал Воробьева и Боева. Больше он никого не вызывал. Боев во всем сознался, а о чем замполит разговаривал с Воробьевым, осталось в тайне. Прошло уже несколько дней. Может быть, замполит меня по этому поводу вызывает? Во всяком случае, для себя я ничего хорошего от вызова к начальству никогда не жду.
— Юнга Беляков по вашему приказанию прибыл, — доложил я замполиту.
Крутов за столом сидел, что-то писал.
— Садитесь, — кивнул он на диван. — Извините, я тут дописать должен.
Давно со мной так не разговаривали, это я отметил про себя. Начинали на «ты» и с папирос: «Вот закури».
У замполита лицо вытянуто вперед. Такое впечатление от крупного с горбинкой носа. Лицо в морщинках. Морщины глубокие, вроде складок. Скуластый. Кончил писать, вызвал рассыльного, отдал листок. Смотрит. В глазах что-то такое… Вроде смешинки застывшей. В то же время серьезно смотрит. Ресницы длинные. Белки глаз желтым налетом тронуты.
— Мне о вас рассказывал Николай Алексеевич…
Наш начальник политотдела капитан первого ранга Алешин, так я понял.
— Хотел поговорить с вами раньше, но… — Крутов задумался. — Во-первых, решили дать вам возможность присмотреться к товарищам. И чтобы моряки присмотрелись к вам… Приняли или не приняли в свою семью.
Так начал разговор замполит.
— Во-вторых…
Снова Крутов выдержал паузу.
— О втором позже поговорим. Довольны службой?
— Так точно, товарищ капитан-лейтенант, — я встал. — Доволен.
— Сидите, сидите… С Федосеевым переписываетесь?
— А вы его знаете?
— Знаю. Хороший матрос.
— Он студент.
— Мы вместе с ним шли по Дунаю.
Помолчали.
— С фронта вас отправили в начале сорок четвертого? — неожиданно спросил Крутов.
— Так точно.
— Вы не раз ходили в тыл врага, рассказывайте. Я хочу знать, за что вас наградили орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Сидел, не знал, что ответить.
— Это и есть то второе, о чем я хотел с вами поговорить, — дошли до меня слова Крутова. — Ваши награды пришли. Я вас поздравляю. Вам их вручат в торжественной обстановке по окончании учений.
* * *
Линия фронта в тот раз проходила по реке. Наша отдельная стояла чуть поодаль от передовой, ближе к штабу дивизии. То немцы стреляли, то наши. У фрицев высотка была. Небольшая, но ценная. С той высотки вся наша сторона, как на блюдечке. Так они пристрелялись, что по отдельным солдатам били из минометов. Вокруг той высотки болота. Такие, что и не пройти, и не проползти. И фрицы были уже не те, что в сорок первом. Бдительными стали, нервными. Просто так к ним не сунешься. Тогда меня и отправили на ту сторону. Сначала на соседний участок, у них было проще фронт перейти, потом на ту сторону. Явку дали, так это называлось. Фельдшера одного. Дядей Васей звать. Фамилию я потом забыл. Этот дядя Вася и должен был проходы показать.
Дал я километров десять крюка, пришел в Сысоево. Деревня, в которой дядя Вася жил. Деревня эта как раз за той высотой стояла. Километрах в трех от передовой. Прихожу я туда, ни домов, ни сараев. Спалили фашисты деревню. Ходил по землянкам, побирался, о дяде Васе узнавал. За его племянника себя выдавал. Но никто о дяде Васе не знал. Только не так это было на самом деле — знали фельдшера в деревне, это у нас неувязка вышла. Знали деревенские, что дядя Вася бобыль, нет у него родных, и племянника быть не могло, вот и молчали. Кто знает, что за племянника бог послал, худо б не было…
Выручил меня пацан, мой ровесник. Вышел за мной из землянки.
— Поди-ка, — сказал, — дело есть.
Я к нему.
— Ну?
А он мне.
— …гну, — говорит.
Чуть не подрались. Это вначале. Потом я открылся ему на сколько мог. Шустрый пацан оказался. Он меня к учительнице своей привел. Той тоже рассказал сколько мог. Дальше проще пошло. Дядя Вася у лесника жил. Вместе с ним мы к нашим вышли. Он проходы показал. Выбили немцев с высоты…
Может быть, за тот случай награды, а нет — за другой, когда я к партизанам ходил и наши штаб немецкой дивизии разгромили. Я ведь не раз к фрицам в тыл ходил. Может быть, и за те слезы, когда я от обиды разревелся и меня долго унять не могли. Было и такое. Возвращался я с той стороны, и мне пришлось реку переплывать. Больше половины проплыл, когда немцы всполошились. Учуяли что или так просто, не знаю. Реку осветили, давай палить. Я сначала под воду нырнул, но под водой мне в уши сильно било, я перестал нырять. Смотрю на свой берег, а он весь в огненных точках. Я от обиды чуть было не захлебнулся. Как же так, думаю, свои и в меня же бьют. Сплошные огоньки выстрелов по всему нашему берегу реки. Я подплыл, за стволом дерева спрятался. Ствол этот в воде лежал. Когда стихло — выполз. И холодно мне, и трясет меня всего, и обидно до слез. Сказать ничего не могу. Меня оттирают, а я реву. Ревел, пока дядя Паша не подошел.
— Ну, ну, юнга! — встряхнул меня дядя Паша. — Не дело так-то, отставить сопли!
Я ему рассказал, как дело было. Не со страху я плакал — от обиды.
Усмехнулся дядя Паша. Сказал, что молчал наш берег, обманулся я. Немцы разрывными пулями били, потому такое впечатление, будто наши стреляют. И по воде они разрывными пулями били, потому в ушах отдавалось.
Разное случалось. Точно я не могу знать, за что награжден. Не помню многого. Пыль дорог память затуманила, не все видится.
* * *
— Я хочу знать причину, по которой вы скрывали то в своей жизни, о чем рассказывали Николаю Алексеевичу Алешину. — Таким было продолжение разговора с Круговым.
Вопрос, просьба? Даже если это просьба… У меня такое впечатление, будто я на столб налетел. Враз остановился.
Замполит не торопил.
— Видите ли… мне хочется разобраться вместе с вами в том, что произошло в вашей жизни…
Что произошло. Скрыл свое прошлое, ничего более. Утаил три года. По молодости или по неопытности забыл многое из того, что было, доказательств, что я скажу правду, у меня тоже нет.
Есть же люди. Редко спрашивает, не перебивает, молчит, а тебе хочется наизнанку вывернуться. Таблетку проглотит, воды глотнет, закурит, а глаза его к тебе. До дна достают. Такому легко рассказывать. Вроде как на санках с горы летишь. Ничто не мешает.
О чем говорить?
Была растерянность при встрече с первой в моей жизни анкетой, был проступок, а насчет политического недомыслия и прочего, не знаю, как и объяснить. Это уж потом написали.
— Видите ли, товарищ Беляков…
Это со мной-то так по-человечески. Я ведь каждую интонацию привык улавливать.
— Следствие не бывает без причины, — говорит замполит. — Для меня главное — понять логику ваших поступков.
— Но я же…
— Не торопитесь. Поймите, я не хочу вас упрекать ни в чем, вам еще мало лет. Но вы пришли на службу. Пришли добровольно, то есть сами. Служба — дело ответственное, она для мужчин. Потому я и хочу разобраться вместе с вами в том, что было. По-мужски, прямо. Узнать хочу, можно ли на вас опереться в будущем. Мне, командованию, вашим товарищам. Говорите.