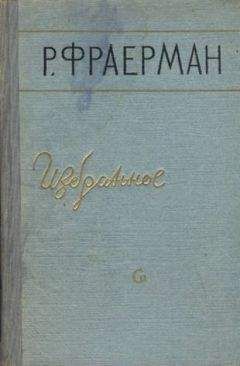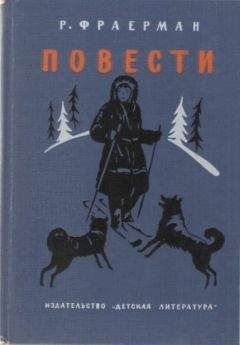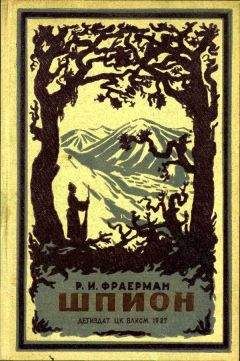Перед ней стоял Коля и тоже смотрел на ее руку.
— Любопытно, — повторил он, — как ты теперь пожмешь руку писателю. Кстати, он уже пришел и сидит сейчас в учительской. Все собрались. Александра Ивановна послала меня за тобой.
Секунду Таня была неподвижна, и глаза ее, только что глядевшие на себя в зеркало с таким любопытством, теперь выражали страдание.
Удивительно, как ей не везет!
Она протянула ему цветы. Она хотела сказать:
«Возьми у меня и это. Пусть поднесет их Женя. Ведь у нее тоже хорошая память».
И он взял бы эти цветы, и они посмеялись бы оба над нею.
Таня живо отвернулась от Коли и помчалась дальше, между рядами детских шуб, сопровождавших ее, точно строй неподвижных свидетелей.
В умывалке она нашла воду. Она вылила ее всю до последней капли.
Она терла руку песком, и все же до самой кисти рука оставалась черной.
«Все равно он скажет! Он скажет Александре Ивановне. Он скажет Жене и всем».
Итак, она сегодня не выйдет на сцену, не отдаст цветов и не пожмет руку писателю.
Удивительно, как не везет ей с цветами, к которым так привязано ее сердце. То отдаст она их больному мальчику, а тот оказывается Колей, и вовсе не следовало ему отдавать, хотя то были простые саранки. И вот теперь эти нежные цветы, которые растут только дома! Попади они к другой девочке — сколько чудесных и красивых историй могло бы с ними случиться! А она должна отказаться от них.
Таня стряхнула с руки капли воды и, не вытирая ее, побрела из раздевалки, больше не торопясь никуда. Теперь уж все равно!
Она взошла по ступеням, обитым медной полоской по краю, и прошла коридор, поглядывая в окна: не увидит ли во дворе своего дерева, которое иногда утешало ее? Но и его не было. Оно росло не здесь, оно росло под другими окнами, на другой стороне. А по другой стороне, пересекая ей путь, шел по коридору писатель. Она увидела его, оторвавшись на секунду от окна.
Он шел, торопливо передвигая ноги, в своих брезентовых сапогах, без шубы, в длинной кавказской рубахе с высоким воротом, перехваченной в талии узким ремешком. И блестели его серебряные волосы на затылке, блестел серебряный поясок, и пуговиц на его длинной рубахе было Тане не счесть.
Вот он свернет сейчас за угол коридора к учительской и исчезнет от Тани навсегда.
— Товарищ писатель! — крикнула она с отчаянием.
Он остановился. Он повернулся кругом, как на пружине, и пошел назад, к ней навстречу, размахивая руками и морща лоб, словно силясь заранее понять, что нужно этой девочке, остановившей его на пути. Уж не цветы ли она принесла ему? Как много, как часто приносят ему цветы! Он не посмотрел на них даже.
— Товарищ писатель, скажите, вы добрый?
Он наклонился к ней.
— Нет, скажите, вы добрый? — с мольбой повторила Таня и увела его за собой в глубину пустого коридора.
— Товарищ писатель, скажите, вы добрый? — повторила она в третий раз.
Что мог он ответить на это девочке?
— Но что тебе нужно, дружок?
— Если вы добрый, то прошу вас, не подавайте мне руки.
— Ты разве сделала что-нибудь плохое?
— Ах, нет, не то! Я хотела сказать другое. Я должна поднести вам цветы, когда вы кончите читать, и сказать от имени всех пионеров спасибо. Вы подадите мне руку. А как я вам подам? Со мною случилось несчастье. Посмотрите.
И она показала ему свою руку — худую, с длинными пальцами, всю измазанную чернилами.
Он сел на подоконник и захохотал, притянув к себе Таню.
И смех его поразил ее больше, чем голос, — он был еще тоньше и звенел.
Таня подумала:
«Он, наверно, должен петь хорошо. Но сделает ли он то, о чем я прошу?»
— Я сделаю так, как ты просишь.
И он ушел, все еще посмеиваясь и размахивая руками на свой особый лад.
Это была веселая минута в его длинном путешествии. Она доставила ему удовольствие, и на сцене он был тоже весел. Он сел поближе к детям и начал читать им, не дождавшись, когда они перестанут кричать. Они перестали. И Таня, сидевшая близко, все время слушала его с благодарностью. Он читал им прощание сына с отцом — очень горькое прощание, но где каждый шел исполнять свои обязанности. И странно, его тонкий голос, так поразивший Таню, звучал теперь иначе. В нем слышался звон трубы, на который откликаются камни, звук, который Таня любила больше всего.
И вот он кончил. Вокруг Тани кричали и хлопали, она же не смела вынуть руки из кармана своего свитера, связанного из грубой шерсти.
Цветы лежали на ее коленях.
Она смотрела на Александру Ивановну, ожидая знака.
И вот все уже смолкли, и он отошел от стола, закрыл свою книгу, когда Александра Ивановна легонько кивнула Тане.
Она взбежала по гремучим ступенькам, не вынимая руки из кармана. Она приближалась к нему, быстро перебирая ногами по доскам, потом пошла медленней, потом остановилась. А он смотрел в ее блестящие глаза, не делая ни одного движения.
«Он забыл, — подумала Таня. — Что будет теперь?» И мороз пробежал по ее коже.
— От имени всех пионеров и школьников… — сказала она слабым голосом.
Нет, он не забыл. Он не дал ей кончить, широко раскинул руки, подбежал к ней, заслонил от всех и, вынув цветы из ее крепко сжатой ладони, положил их на стол. Потом обнял ее, и вместе они сошли со сцены в зал. Он никому не давал к ней прикоснуться, пока со всех сторон не окружили их дети. Они касались его руками, они шумели вокруг, и никогда самая громкая слава не пела ему в уши так сладко, как этот крик, оглушавший его.
Он на секунду прикрыл глаза ладонью.
А Таня стояла возле, почти касаясь его плеча, и вдруг почувствовала, как кто-то старается вынуть ее руку, запрятанную глубоко в карман. Она вскрикнула и отстранилась. Это Коля держал ее руку за кисть и тянул к себе изо всей силы. Она боролась, сгибая локоть, пока не ослабела рука. И Коля вынул ее из кармана, но не поднял вверх, как ожидала Таня, а только крепко сжал своими руками.
— Таня, — сказал он тихо, — я так боялся за тебя. Я думал, что будут над тобой смеяться. Но ты молодец! Не сердись на меня, не сердись, я прошу. Мне так хочется танцевать с тобой в школе на елке.
Ни обычной усмешки, ни упрямства не услышала она в его словах.
Он положил свою руку к ней на плечо, словно веселый танец уже начался, словно они стали кружиться.
Она покраснела, глядя на него в смятении. Нежная улыбка осветила ее лицо, наполнила взгляд, глаза и губы. И, ничего не боясь, она тоже подняла свою руку. Она совсем забыла о своих обидах, и несколько секунд ее перепачканная, худая девическая рука покоилась на его плече.
Вдруг Филька обнял обоих. Он пытливо смотрел то на Таню, то на Колю, и беспечное лицо его на этот раз не выражало радости.
— Помирились, значит, — громко сказал он.
И Таня отдернула руку, сняла ее с плеча Коли, опустила ее вниз, вдоль бедра.
— Что ты глупости говоришь, Филька! — сказала она, покраснев еще сильнее. — Он просто просил меня, чтобы я пригласила его к себе завтра на праздник. Но я не приглашаю. А впрочем, пусть приходит, если ему уж так хочется.
— Да, да, — вздохнул легонько Филька, — завтра Новый год, я помню — это твой праздник. Я приду к тебе с отцом, он просил меня, можно?
— Приходи, — поспешно заметила Таня, — может быть, у меня будет не скучно. Приходи, — сказала она и Коле, прикоснувшись к его рукаву.
Филька с силой протиснулся между ними, а за ним толпа детей, стремящихся вперед широкой рекой, разъединила их.
Новогодняя ночь приходила в город всегда тихая, без вьюг, иногда с чистым небом, иногда с тонкой мглой, загоравшейся от каждого мерцания звезды. А повыше этой мглы, над ней, в огромном, на полнеба, круге ходила по своей дороге луна.
Эту ночь Таня любила больше, чем самую теплую летом. В эту ночь ей разрешалось не спать. Это был ее праздник. Правда, она родилась не в самую ночь под новый год, а раньше, но имеет ли это значение! Праздник есть праздник, когда он твой и когда кругом тебя тоже радуются. А в эту ночь в городе никто не спал. Снег сбрасывали с тротуаров на дорогу и ходили друг к другу в гости, и среди ночи раздавались песни, скрипели шаги на снегу.
В этот день мать никогда не работала, и Таня, придя из школы, еще на пороге кричала:
— Стоп! Без меня пирожков не делайте!
А мать стоит посреди комнаты, и руки у нее в тесте. Она относит их назад, как два крыла, которые готовы поднять ее на воздух.
Она нагибается к Тане, целует ее в лоб и говорит ей:
— С праздником тебя, Таня, с каникулами, А мы еще ничего не начинали делать, ждем тебя.
И Таня, бросив книги на полку, спешила надеть свое старенькое, в черных мушках, платье. Она еле влезала в него. Ее выросшее за год тело наполняло его, как ветер, дующий в парус. И мать, глядя на Танины плечи, начинала качать головой: