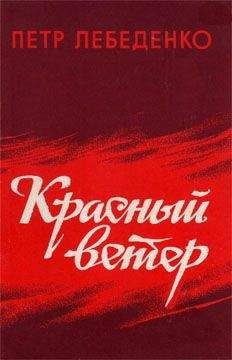Они указали на Боньяра и Бертье:
— Амиго?
— В штаб, — по-французски сказал Шарвен. — Ведите в штаб.
Их повели. Они шли рядом: Бертье — посредине, Боньяр и Шарвен — справа и слева. Бертье глухо спросил у Шарвена:
— Вы сделаете все, чтобы меня расстреляли?
— Это их дело, — коротко ответил Шарвен.
— Но там, во Франции, вас будут судить как предателей. Или думаете, что там никогда ни о чем не узнают?
— Вы хотели убить лейтенанта Боньяра, Бертье.
— Нет. Я стрелял, чтобы он не мешал мне уйти. Разве на моем месте вы не поступили бы точно так же?
— Какого черта! — сказал Гильом. — Лично я не стану марать руки, хотя они и чешутся пустить вам пулю в лоб…
— Я ненавижу вас, Боньяр! — хрипло проговорил Бертье. — Вы шут, а не летчик. — И к Шарвену: — Подумайте, Шарвен, что будет с Жанни де Шантом, когда узнают, как вы со мной поступили. А рано или поздно там узнают: у нас везде есть свои люди.
— Что же вы хотите? — спросил Шарвен.
— Скажите им, что я — с вами. Потом я сумею уйти отсюда. И, клянусь вам, никому ни о чем не расскажу.
— Вы мерзавец, Бертье, — не повышая голоса, сказал Шарвен. — Вы скорее похожи на мелкого торгаша, чем на офицера. У вас нет и капли мужества.
— Пронто, пронто![3] — грубо подталкивали их сзади.
И Шарвен подумал, что не очень-то им здесь с Гильомом и поверили, будто они — друзья. Да и почему они должны верить на слово?.. У них не так уж мало врагов, чтобы быть доверчивыми.
В штабе — деревянном домике с земляным полом, сплошь усеянном окурками, — за грубо сколоченным столом сидели двое в простых комбинезонах, ничем не отличающихся от тех, что были на испанских летчиках. И лишь по той сдержанности, с которой к ним обратились вошедшие вместе с Шарвеном, Боньяром и Бертье республиканцы, Шарвен понял, что перед ними сидят люди, облеченные властью.
Несколько минут эти двое с любопытством разглядывали незваных гостей, изредка задавая вопросы тем, кто их сюда привел. Потом пожилой, с густой сединой в волосах и с утомленными глазами, человек крикнул:
— Эстрелья!
Из-за полога, завешивающего узкую дверь в другую комнатку, появилась худенькая девушка в синем платье, перетянутом широким поясом, на котором висела кобура с пистолетом.
Седой человек о чем-то долго ей говорил, указывая на Бертье, Шарвена и Боньяра, а девушка, слушая его, заправляла под берет иссиня-черную прядь своих волос. Наконец она сказала на не совсем правильном французском:
— Майор Риос Амайа спрашивает, кто из вас трое есть старший чином?
— Полковник Бертье! — Полковник подошел поближе к столу и почтительно, но с достоинством взглянул на майора Амайу: — Если господин майор разрешит, я первым стану отвечать на вопросы.
— Майор Риос Амайа разрешает, — сказала переводчица. — Он хочет знать, кто вы такие и что вас привело в Барселону? Он также хочет знать, почему самолеты не воюющей с республиканской Испанией Франции появились здесь? Майор Риос Амайа желает предупредить: если французские летчики станут говорить ложь, это будет для них очень нехорошо…
Боньяр вдруг тоже шагнул к столу, резко оттолкнул Бертье и приготовился было что-то сказать, но майор Амайа приказал:
— Назад!
Тогда Бертье, спокойно вытащив из кармана сигарету и закурив, начал:
— Я французский летчик, офицер военно-воздушных сил, полковник Франсуа Бертье. Мои коллеги: летчики лейтенант Шарвен и лейтенант Боньяр… Господин майор желает знать, какую цель мы преследовали, сделав посадку в Барселоне. Возможно, нам стоило бы поискать причину и найти оправдание. Сказать, например, что мы прилетели сюда для того, чтобы помогать республиканской Испании в борьбе с франкистами…
Бертье сделал небольшую паузу и внимательно посмотрел на испанцев, видимо, желая хотя бы приблизительно определить, какое впечатление произведут на них его слова. Однако те сидели молча, и в их глазах Бертье ничего не мог прочесть… Тогда он продолжал:
— …Или сказать, что мы несли патрульную службу вдоль своей границы, пересекли ее и, заблудившись, решили, что камне хватит горючего на обратный путь. Поэтому и приземлились-в Барселоне, надеясь на помощь наших испанских друзей.
— Барселона слишком далеко для подобной версии, — сдержанно сказал майор Амайа.
— Дело даже не в том, — не теряя самообладания, сказал Бертье. — Я офицер, и не в моих правилах пытаться выторговать для себя снисхождение. Честь офицера также не позволяет мне лгать. Мы все — я говорю о себе и о подчиненных мне летчиках лейтенантах — направлялись к генералу Франко, чтобы предложить ему свои услуги. В Барселоне мы приземлились по ошибке, приняв ее за другой город. Теперь мсье майору все ясно? Очень хорошо… С настоящей минуты мы считаем себя военнопленными и требуем, чтобы по отношению к нам были применены соответствующие правила, регламентирующие…
— Фашисты… — перебил его майор Амайа и кивнул девушке, чтобы та переводила его слова. — Фашисты и их пособники не только расстреливают попавших к ним в плен ваших летчиков — они их четвертуют, предварительно подвергнув зверским пыткам. Пыткам, которым могли бы поучиться средневековые инквизиторы. А потом… Потом они в ящиках сбрасывают на наши аэродромы куски мяса — все, что осталось от наших товарищей:.. Вам больше нечего сказать, полковник?
— Ему больше нечего говорить. — Шарвен, стоявший до сих пор молча, вышел наконец вперед и повторил: — Ему нечего больше говорить. Но здесь есть и другие, у кого господин майор тоже может спросить, что их привело в Барселону. Надеюсь, господин майор все-таки даст возможность сказать несколько слов и этим другим?
Когда переводчица закончила переводить, майор Амайа ответил не сразу. Он долго смотрел на Шарвена своими усталыми глазами, и вначале Шарвену казалось, что в них ничего, кроме смертельной усталости, нет. Но потом он увидел в этих глазах такую неприкрытую ненависть, что ему невольно стало не по себе, и, сам того не замечая, Шарвен отступил на два шага назад…
Сидевший рядом с майором человек положил тяжелые руки на стол (в том, что это были руки рабочего, Шарвен не сомневался: узловатые сильные пальцы, загрубевшая кожа, еще не исчезнувшие мозоли на ладонях — наверное, не так давно этот человек работал или докером в Барселонском порту, или был каменотесом) и, поглядывая то на майора Амайу, то на Шарвена, что-то быстро начал говорить простуженным голосом. Майор, кажется, соглашался с ним, потому что все время кивал головой. Затем, взглянув на Шарвена, сказал:
— Прошу коротко.
Однако коротко у Шарвена не получилось: он подробно рассказал о том, как Бертье обратился к нему и Боньяру с предложением отправиться на службу к генералу Франко, как он, Шарвен, и Гильом Боньяр заранее договорились сделать все возможное, чтобы оказаться в Барселоне не только самим, но и заставить сесть на этом аэродроме Бертье, как вот этот самый, полковник Бертье, когда понял, что они решили сделать, открыл огонь по самолету Боньяра.
— Мы прилетели в Испанию для того, — заключил Шарвен, — чтобы вместе с вами драться против франкистов и вот таких ублюдков, как Бертье, руки которого уже давно в крови… Мы прилетели сюда для того, чтобы вместе с вами защищать от нашествия фашизма не только Испанию, но и нашу родину — Францию!
Гильом сказал:
— Браво, Арно, ты выложил все так, как надо… Эй, сеньорита,! — обратился он к переводчице, — скажи своим начальникам, что летчик Гильом Боньяр полностью присоединяется к словам своего друга Арно Шарвена. Слышишь? И еще скажи, что их подозрительность меня оскорбляет. Гильом Боньяр прилетел сюда не для того, чтобы его тут допрашивали, как паршивого фашиста. Точка. Гильом Боньяр больше не произнесет ни слова.
Бертье давно уже научился играть не переигрывая. Сейчас он особенно остро чувствовал: стоит ему сделать хотя бы один фальшивый шаг, произнести фальшивым тоном хотя бы одно слово — и все будет кончено, участь его будет решена. Он ясно видел: рассказ Шарвена произвел на испанцев немалое впечатление. Особенно на того, с медвежьими лапами. Да и на других тоже. Сдается, что они склонны поверить Шарвену. А Боньяр еще больше подлил масла в огонь. Его резкость, кажется, пришлась испанцам по душе — они уже находят общий язык, эти плебеи. Еще бы — ягоды-то одного поля…
Со стороны могло показаться, будто Бертье сам себе копает могилу. Ни в чем не оправдываясь, признаваясь, что он на стороне тех, кто поддерживает мятежников, Бертье тем самым будто подписывал себе приговор. И даже Боньяр, неплохо знавший, насколько Бертье может быть двоедушным, ничего не понимал: куда он клонит, какую цель преследует, на что рассчитывает?
Однако он, Бертье, не был простаком: патологически ненавидя всех, кто находился в противоположном лагере, он тем не менее понимал, что его противники — это люди, которым чужды бессмысленная жестокость, трусость, лживость и фальшь.