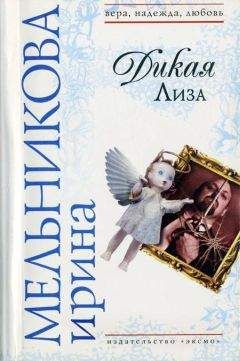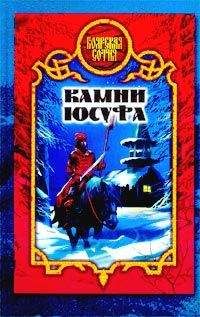Григория я нашла без труда, он находился в авангарде с конницей. Князь знал, что его мать до конца останется со своей государыней, и потому рвался к Екатеринбургу, надеясь застать ее в живых. Но увы. Увидев меня, дрожащую, исхудавшую, бледную, он все понял. Только спросил: «Где?». И кликнув казаков, помчался к сожженному хутору. С содроганием сердца смотрела я, как князь руками разрывал угли и пепел на пепелище, желая найти хоть какие-то останки матери — но безуспешно, «товарищи» сложили костер на совесть, видимо, вложив в него всю злость, которую испытывали. Остался только крестик Алины Николаевны, который она дала мне на память перед смертью. Сдернув папаху, Григорий прижал меня к себе и едва слышно, глухо прошептал: «Мы отомстим, Катя. Мы отомстим. Теперь ты будешь со мной. Не бойся». — Голос Катерины Алексеевны дрогнул. Она опустила голову. Потом поставила чашку с остывшим кофе на пол. Сжала руками виски и как-то неестественно наклонилась вперед, закусив до крови губы.
Лиза забеспокоилась:
— Что с вами, Катерина Алексеевна? — спросила она и подошла к Белозерцевой. — Вам плохо? Позвать врача?
— Нет, нет, врач не поможет, — ответила Катерина сдавленно. — Ты иди, Лиза, я справлюсь, сейчас пройдет.
— Об этом не может быть и речи! — запротестовала Лиза. — Катерина Алексеевна, вам надо лечь. Давайте я помогу.
— Спасибо, — Белозерцева приподнялась, опираясь на руку Лизы, потом окинула взглядом горницу. — Брось мой полушубок вон на ту скамью, — указала она под окно, — там лягу.
Лиза быстро исполнила ее просьбу. Катерина едва дошла до постели — ее качало. Когда легла — ее трясло в ознобе, по лицу крупными каплями катился пот. Она скорчилась от боли и сдавленно застонала. Потом все тело ее напряглось и застыло в неподвижности, лицо побелело как снег.
— Катерина Алексеевна! — Лиза не знала, что делать.
Полежав несколько мгновений без движения, Белозерская схватилась руками за скамейку, выгнулась дугой, по всему телу ее прошла судорога. Потом, зажав рот рукой, вскочила с постели и выбежала из избы. Лиза слышала, как ее рвало. Когда вернулась, она села в кресло, уронив голову на руки.
— Вам лучше, Катерина Алексеевна? — спросила Лиза.
— Не волнуйся, — ответила ей Белозерцева, — это пройдет. Так всегда бывает, но пока проходит, слава богу.
— Но почему вы не лечитесь? — Лиза была встревожена не на шутку. — Неужели в Москве никто не может помочь?
— Мне нельзя помочь, — Катерина Алексеевна постаралась ответить беспечно, чтобы скрасить пугающий смысл того, что произнесла. — Сколько проживу, столько и проживу.
— Как это «нельзя»? — испуганно изумилась Лиза. — Я не понимаю. Это врачи сказали?
— Да, врачи, — так же наигранно весело продолжала Белозерцева, не глядя на нее. — У меня пуля в голове, — продолжила она, — достать ее оттуда очень рискованно. Она расположена таким образом, что я могу умереть прямо на операционном столе или, лишившись рассудка, окончить дни в сумасшедшем доме. По большей части она меня не тревожит, но иногда, при неловком движении или излишнем волнении дает о себе знать. Вот как сегодня — страшная боль в голове, мозг словно жжет огонь. Но потом все успокаивается. Пока успокаивается. Мне остается только надеяться, что наука продвинется вперед и подобные операции станут обыденными. Но это будет только после войны, а до этого еще надо дожить.
— Это случилось на войне? — спросила Лиза, затаив дыхание.
— Что? — Белозерцева подняла на нее глаза, — Пуля в затылок? На войне такое случается редко. Слишком уж меткое попадание. Нет, это было еще до войны, — объяснила она. — Таких пуль во мне было восемь штук. Все достали, одна осталась — на память.
— Но как? — все еще не понимала Лиза, точнее, боялась поверить тому, о чем догадалась.
— Обычно. Меня расстреливали. Ты знаешь, я не исключение, расстреливали многих, меня не дорасстреляли. Передумали. Но мне кажется, ты хочешь спросить, как после всего, что мне довелось пережить, я смогла служить Советам? Да и чем я смогла им послужить? Чем — нашлось быстро. Они сами нашли, а вот что касается моей воли — я не была ей хозяйкой. Не по воле, а поневоле вышло так, как вышло. Когда Гриц после убийства Распутина вернулся на фронт, я не писала ему писем, хотя он и просил. Только изредка делала приписки в письмах Алины Николаевны, когда она мне дозволяла. Я понимала, блистательный князь — не моего поля ягода, надо ждать жениха поскромнее. К тому же я была уверена, что Алина Николаевна никогда не согласится на наш брак — тогда обрушились бы все ее планы. Я не знала, что время, события развернутся так, что слово Алины Николаевны уже ничего не будет значить. Все перевернется настолько, что прошлые ценности напрочь утратят свое значение. Когда я увидела Грица в конце июля 1918 года, то почему-то подумала, что мы уже не расстанемся. Я не надеялась, — моя уверенность исходила не от рассудка, порождающего надежду, она была интуитивной. Как будто я все знала наперед, но сама себе не могла объяснить.
К тому времени Маша Шаховская окончательно поняла, что Гриц отдаляется от нее. Их свадьба откладывалась сначала из-за мировой войны, а после революции и гибели княгини Алины Николаевны она и вовсе потеряла смысл. Гриц не любил Машу. Единственное, что удерживало его от окончательного разрыва — это слово, данное матери. Он не смел отступиться от него, пока она была жива, тем более, когда умерла. Я думаю, он хотел все-таки жениться на Маше только из чувства долга. Но Маша требовала любви, желала вернуть прежнюю горячую, страстную нежность их отношений. А ее-то как раз и не было. В конце концов, не добившись того, что ей так хотелось, Маша в отчаянии бросилась зимой в прорубь. Но ее спасли. Она сильно простудилась. И не слушая ее возражений, Гриша повез ее сначала в Крым, а потом в Париж. Меня он тоже взял с собой. Только по той причине, что просто не мог бросить на произвол судьбы, особенно после смерти матери.
В Париже Машу поместили в клинику. Григорий почти все время проводил на военных совещаниях, а меня поручили заботам великой княгини Марии Павловны, родной сестры Дмитрия Павловича, у которой был популярный во французской столице светский салон.
Мария Павловна вышла замуж за принца Швеции, но не нашла с ним счастья, так как он оказался гомосексуалистом, потому жила отдельно. Говорили, что всю жизнь она питала излишне нежные чувства к своему брату Дмитрию, что и послужило причиной ее поспешного замужества. Но когда мы встретились с ней, она производила впечатление спокойной, уравновешенной, великодушной женщины. Поскольку она жила за границей, крах дома Романовых ее почти не коснулся, ее дети — дочь и трое сыновей — все были живы и здоровы, а это для Марии Павловны было важнее всего. Она покровительствовала многим деятелям искусства, в частности, Дягилеву.
В Париже в доме Марии Павловны я вновь окунулась в жизнь, которая, казалось бы, навсегда закончилась для меня в Петербурге. Мария Павловна выезжала с визитами, проводила много времени в беседах со знакомыми на званых обедах и ужинах, совершала бесчисленные покупки, а по вечерам посещала театр. Она всюду возила меня с собой. Но мне хотелось чаще видеть Григория, он же появлялся крайне редко. Только в последний день нашего пребывания он повез меня в авто по Елисейским Полям, и тогда виды Парижа, казавшиеся мне самыми обычными, почти как в Петербурге, вдруг обрели в моих глазах необыкновенную красоту и привлекательность.
В декабре 1918 года закончилась мировая война. Мы столько ждали этой победы, но ее праздновали в Париже без нас. Гриша сообщил мне, что возвращается в Россию — генерал Деникин собирал в Ростове Добровольческую армию, перед которой ставилась задача — нанести удар на Москву с юга и соединиться с наступающей с востока армией адмирала Колчака. С северо-запада их поддерживал Юденич. Согласно приказу Григорий Белозерский должен был принять под командование кавалерийскую дивизию и присоединиться к генералам Шкуро и Султан-Гирею, составлявшим ядро конницы.
Уезжая в Россию, Григорий хотел оставить меня в Париже, справедливо считая, что так безопаснее. Великая княгиня Мария Павловна вызвалась взять меня иод опеку до выздоровления княгини Шаховской. Поскольку здоровье Маши улучшалось медленно, то опека обещала быть долгой. Мария Павловна даже шутила: «Вы уже займете Москву и позовете нас к себе. Не волнуйтесь, Гриц, я не забуду Катю. Обязательно привезу ее с собой».
Никто не мог представить тогда, что Белое движение потерпит крах, что им не суждено въехать в Первопрестольную под колокольный звон соборов. Это казалось просто невероятным. Но так вышло.
Мария Павловна и князь Григорий уговаривали меня остаться в Париже. Согласись я тогда, моя жизнь сложилась бы по-другому… Но я протестовала отчаянно. Я обещала служить сестрой милосердия в госпиталях, не в состоянии сидеть сложа руки в Париже. После того как увидела смерть княгини Алины, мне хотелось принять участие в наступлении на тех, кто убил ее. Я обманывала себя. Глубоко в душе я осознавала, что на самом деле меня пугает мысль о долгой разлуке с Грицем, а он, как я поняла уже потом, не настаивал на своих доводах, потому что тоже желал как можно скорее остаться со мной вдвоем, подальше от Маши и от Марии Павловны, подальше от всех. Он легко позволил мне убедить себя. Он тоже думал, что все легко и быстро закончится, мятеж будет подавлен. Тогда мы все считали революцию всего лишь мятежом одиночек.