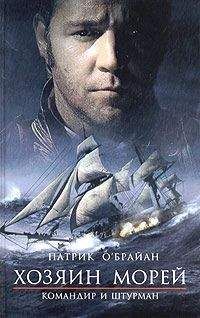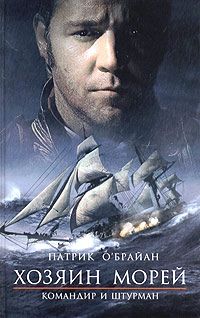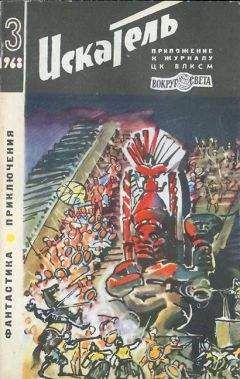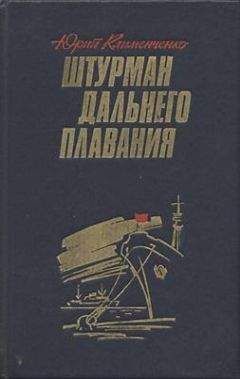— Война застала нас в Либаве, — начал он после затянувшейся паузы. — Лодка, на которой я служил рулевым, ремонтировалась и стояла у заводского причала. Весь день и всю ночь фашистские самолеты бомбили город. Один “юнкерсы” отбомбятся — другие летят, ноют над головами.
Уж как мы работали! Дни и ночи перемешались. Спали по часу, по два, прямо на палубе у механизмов, да и то когда валились с ног от усталости.
И все же сделать всего не смогли. Не успели. Стало известно: гитлеровские тапки прорвались у Паланги и катят на город. Каждому ясно: оставаться в базе больше нельзя — с часу на час фашисты закроют выход в море.
Командир базы распорядился всем оставшимся в гавани кораблям, у которых исправны машины, прорываться на север — в Ригу и в Таллин. Корабли, которые не могли дать ход, приказал уничтожить. Подорвать своими руками…
Да разве они к такому приучены, наши руки?… Вот эти? — Андреев положил на стол большие рабочие руки и горько усмехнулся. — Только и этому они в те дни научились — рушить то, что сделали сами.
Матросы взорвали в доке эсминец и подводную лодку, пустили на дно бухты два “морских охотника”. Они плакали, когда губили свои корабли… Плакали и кляли фашистов. Боцман с эсминца перед тем, как бикфордов шнур поджечь, палубу целовал. Слезы по морщинам текут — не стирает. Однако сделали свое дело моряки. Надводники в сухопутную оборону подались, а экипаж со взорванной подлодки перешел к нам.
Мы собрали дизели, приняли боезапас для пушек, соляр. Торпед, однако, не грузили — аппараты все равно не действовали.
Хуже всего — лодка не могла погружаться. Электродвигатели были разобраны и вместе со станцией погружения и всплытия сгинули в разрушенном бомбами цехе завода. В общем осталось от лодки одно название — “подводная”.
Из базы уходили за полночь, когда “юнкерсы” и “мессера” немного угомонились.
Выбрались мы из порта и повернули на север. Командир приказал проложить курс на Таллин, распорядился дать полный ход.
Прошел час. Второй начался. Море штилевое. Ночь — чернее черного; только под самым берегом вода от зарева, словно кровь, густая, алая. В каждой водяной выбоинке перископы и мины мерещатся. Дизели стучат, что новые ходики.
Начало светать. С правого борта открылся маяк Ужава — три лесистые горушки, и между ними башенка белая. Штурман обрадовался: “До мыса рукой подать. Уж теперь-то…” И досказать не успел, командир как закричит: “Воздушная тревога!” Глядим, от берега самолет летит: мы его “рамой” окрестили. Не долетая до нас, отвернула та “рама” и сторонкой снова к берегу подалась. Комендоры у пушек аж пританцовывают. Однако командир стрелять не велел. “С такой дистанции попадем ли, нет, а так, может, “рама” нас вовсе и не заметила”.
Только глазастый фриц нам на беду попался. Получаса не прошло, как из-за горизонта показались торпедные катера.
Наши комендоры открыли огонь. Первый залп — недолет. Второй и третий — за катерами. Но уж четвертый пришелся впору. Один катер на куски развалился, еще два — задымили, перестали стрелять. Ну, думаем, отобьемся…
Только разве управишься с такой сворой! Их еще семь осталось. Вертятся, как блохи, с разных концов налетают. У них и пушки скорострельные, и пулеметы, и торпеды. А у пас одно спасение — маневрировать.
Вот уж когда наш командир себя показал. То вправо, то влево лодку бросит, то застопорит ход, а то сразу как рванет с места…
Много у нас народу фашисты покосили. Убьют комендора, ему на смену матросы и старшины из второго экипажа становятся — мотористы, электрики, трюмные.
Как ни бились мы, все же удалось одному фашистскому отчаюге к нам подобраться. Увидел я пузырчатые дорожки на воде, крикнул командиру: “Торпеды!” Но было поздно.
Взрывом меня оглушило и швырнуло на палубу. Когда очнулся, вскочил на ноги, снова вскарабкался на свое место сигнальщика. И вижу: корма лодки под водой, нос задрался “верху. Всех, кто находился на кормовой надстройке, взрывной волной снесло за борт. Пушка с обломанным стволом валяется поперек палубы. Дизели остановились, и ветер медленно разворачивает нас поперек волн.
Катера прекратили стрельбу. Видно, решили, что на нас теперь и снарядов не стоит тратить.
— Тепленьких хотят взять, — с ненавистью сказал командир.
Он покачнулся, обеими руками схватился за голову. Я подумал: “Сейчас упадет”, — бросился к нему. Командир отстранил меня. С минуту он стоял, сгорбив плечи, покачиваясь из стороны в сторону. Потом приказал:
— Запросите центральный пост: как у них там?
Из центрального поста ответили: кормовые отсеки затоплены, люди в них погибли, лодка продержится на плаву еще от силы пять–восемь минут. Командир наклонился над люком и крикнул им вниз:
— Нужно продержаться четверть часа. Слышите? Четверть часа!
Из центрального поста не ответили. Командир опять пошатнулся. Щеки у него стали белее снега. Он рванул ворот кителя и снова крикнул:
— Четверть часа!… Ясно?!
Снизу, наконец, отозвались. Я узнал голос механика:
— Есть четверть часа! Продержимся…
Командир приказал позвать мичмана Грома. Мичман — наш парторг.
Я не понимал, что он задумал, как можно продержаться, если у лодки начисто оторвана корма, не работают помпы и море свободно вливается в отсеки через пробоины. Я вообще мало чего понимал: смотрел на близкий берег, на мечущиеся катера, на командира…
Мичман Гром вылез из люка до пояса, дальше подниматься не стал. Он был перемазан в соляре, из полуоторванного рукава его кителя торчали рыжие клочья слежавшейся ваты.
— Как там? — командир ткнул пальцем в круг люка.
Мичман затряс головой.
— Говорите громче, не слышу.
Командир нагнулся к нему и почти криком повторил вопрос. Гром махнул рукой.
— Плохо. Мало нас осталось. Вода быстро прибывает.
Командир закусил губу. Пальцы его сжались в кулаки.
— У вас все готово?
— Нужно еще минут десять. Присоединяем шнур.
— А если он не сработает?
Мичман молча отвернул полу кителя. Из-за пояса у него торчали две ручные гранаты.
— Как запалы?
— Вставлены.
— Спички?
Гром похлопал по нагрудному карману кителя.
— С матросами говорил?
— Да.
— Ну?
— Они — как и мы. Колеблющихся нет.
— Ясно. По готовности доложите и ждите мою команду… — Командир помедлил. — Если я не смогу, он подаст, — и показал на меня.
Я, наконец, все понял.
Стояла тишина. Гитлеровские катера заглушили моторы и болтались на волнах в отдалении. Где-то на берегу пророкотал взрыв, и над холмами позади маяка поднялось черное пушистое облако. Изредка с катеров взлетали ракеты: красные, зеленые, белые.
Но вот фашисты не выдержали. От их группы отделились два катера. Они приближались, петляя по-заячьи, и по всему было видно, еще боялись нас. На мачте ближнего катера подняли сигнал.
Командир спросил:
— Чего они хотят, эти жабы?
Фашисты по международному своду сигналов требовали: “Сдавайтесь, иначе открываем огонь”. Командир пожевал губами, усмехнулся:
— Приятный разговор. Поднимите им: “Ваш сигнал не могу разобрать”.
Я удивился. К чему тут разговоры! Но приказ… Готовлю флаги. А командир снова:
— И не спеши. Нам торопиться некуда…
Набрал я сигнал, поднял, а те сейчас же в ответ: “Спустите свой флаг” и, конечно, опять: “Иначе открываем огонь”.
В это время из люка показался мичман Гром. Он сказал всего одно слово:
— Готовы.
Командир не ответил. Вытянул из кармана кожанки пачку “Беломора”, щелкнул пальцем по донышку. Потом протянул пачку Грому. Тот грустно улыбнулся.
— Прежде не научился, а теперь уж вроде поздно… Впрочем, давайте, — махнул он рукой и потянулся к пачке.
Командир прикурил и подал горящую спичку мичману. Они присели на корточки возле люка.
Когда папироса была выкурена, командир аккуратно затушил ее о подошву ботинка, хотел швырнуть за борт, но передумал, сунул в спичечный коробок.
— Другого выхода у нас нет, — сказал командир.
Мичман кивнул.
— Знаю… Разрешите идти?
— Иди, — сказал командир и отвернулся. Стал смотреть на море.
И снова мы с командиром остались вдвоем. Он молчал. Привалившись спиной “тумбе перископа, смотрел на болтавшиеся вдали катера. Но вот он пошевелился, что-то сказал мне. Я не расслышал, попросил повторить. Он показал рукой на восток.
Над берегом всходило солнце. Его зазубренный край уже поднялся над холмами, и все вокруг словно ожило. Сразу стало теплее.
Командир зажмурился. Мне показалось, что он застонал. Но спустя секунду я услышал его бесстрастный голос:
— Андреев, замените флаг на парадный.
Я уставился на него.
— Но для этого нужно спустить старый флаг, а фашисты подумают…
Он не дал мне закончить: