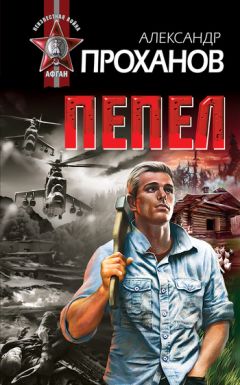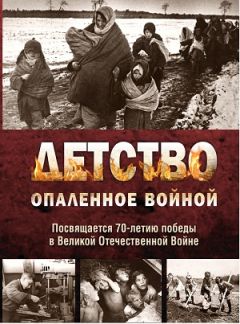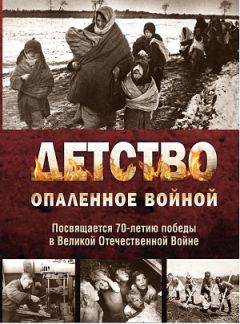Командир полка заглянул в лицо лейтенанта и тихо прошептал:
– Се ля ви!..
Суздальцева вдруг осенило. Тот, чьи глаза видели эту безымянную войну. Кто летел в военном транспорте на луну. Кто мчался на стреляющей боевой машине к ночному дворцу. Кто смотрел в бинокль на ревущую в азиатском городе толпу, а потом отдавал приказ стрелять по льющейся человеческой лаве. Кто сжимался от рева истребителей, полосующих бичами город. Кто видел лейтенанта с петушиным шальным хохолком и черно-красную дырочку меж белесых бровей. Все это был он, Суздальцев, перенесенный из тесной избушки в будущее, еще не существующее время. Та несуществующая война отыскала его в глухой деревне, выхватила из каморки, перенесла в неведомую азиатскую страну, где происходят бои и смерти. Это ошеломило его. Он не видел себя на той войне, не видел, как выглядело его постаревшее лицо. Была ли в волосах седина. Топорщились ли над верхней губой офицерские усы. Но знал, что это он. Его сегодняшнее пребывание в деревенской каморке через бесконечные цепи событий, через вереницы причинно-следственных связей перетекает на ту загадочную войну, которой еще нет – и которая неизбежно случится…
Убитый лейтенант лежал на обочине лицом вверх, и по щеке из раны вяло сочился алый ручеек. Второй убитый лежал на боку, словно спал, и его бледное остроносое лицо казалось усталым и равнодушным. Раненому санинструктор бинтовал бедро, солдат всхлипывал и постанывал от боли. Другие солдаты, отложив автоматы и каски, пили из фляг; не могли напиться, словно заливали водой горевшие в них угли.
Кишлак казался безлюдным, без дымка, без крика, без выстрела, словно обитавшая в нем жизнь, отбившись от вторжения, спряталась под глиняными колпаками и сводами. По другую сторону от дороги, где курчавились старые безлистые виноградные лозы, мерно приближались три верблюда. Качали грациозными шеями, возносили надменные головы, колыхали на горбах полосатые переметные сумки. Впереди вышагивали два погонщика, высокие, худые, в белых чалмах и белых длинных балахонах. Краснели из-под тюрбанов их лица, большие носы, чернели округлые бороды.
– Что за чучела? Взять, привезти сюда! – приказал комполка. Офицер и трое солдат кинулись наперерез каравану. Остановили, что-то объясняя, тыкали стволами автоматов. Погонщики повиновались. Повели верблюдов к дороге, туда, где их ожидал командир полка.
– Кто такие? Откуда? – спрашивал он погонщиков, когда они вместе с верблюдами приблизились к бэтээру. – Как здесь оказались?
Погонщики не понимали его, спокойно смотрели коричневыми глазами, что-то жевали, перетирая жвачку белыми зубами. Жевали погонщики, жевали верблюды. Лежал лейтенант с пулевым отверстием, и другой убитый отдыхал на боку.
– Обыскать! Что в мешках?
Офицер охлопал погонщикам плечи, бока и бедра, и было видно, как худы, сухощавы их длинные тела под белой тканью. Офицер отомкнул от автомата штык-нож, подошел к верблюдам и полоснул ножом висящие на верблюжьих боках мешки. Из мешков посыпалось зерно, и вместе с сыпучей золотой пшеницей на землю выпал черный, с лысым прикладом карабин. Офицер подхватил карабин, повертел, поворачивая шишку затвора, выкидывая из ствола патрон; тот упал на траву, желтея остроконечной пулей. Протянул карабин командиру.
Это был старый карабин времен англо-бурской войны, с седым стволом, с блестевшей от прикосновений рукоятью затвора, с ветхим прикладом, в котором переливалась перламутровая инкрустация, – дань уважения и любви азиатского хозяина к верному оружию. Карабин своей тяжелой усталой красотой мог поведать о горных засадах, где стрелки поражали английскую пехоту, целя точно меж глаз. Об охотах в горах, где меткий охотник бил в глаз пролетающую через пропасть косулю. Из такого карабина в глиняных теснинах селенья был убит лейтенант, и пуля, подобная той, что желтела в сухой траве, пробила лейтенанту череп.
– С оружием? В районе боевых действий? Расстрелять!
Погонщики спокойно жевали, не понимая чужой речи. Верблюды возвышали головы над кормой бэтээра.
– Расстрелять! Отведите их в поле и расстреляйте!
Солдаты стволами указали погонщикам поле. Те спокойно пошли, по окрику офицеров остановились и повернулись своими красными гончарными лицами.
– Цельсь! – приказал офицер. Солдаты подняли стволы, и погонщики, не меняясь в лице, продолжали жевать. – Пли!
Раздались короткие очереди, и погонщики упали назад и чуть вбок, одинаковые, длинные, вытянувшись белыми балахонами среди черных трав.
Командир полка заложил два пальца в рот и свистнул, пихнув сапогом верблюда. Животные побежали вдоль броневиков, перебирая длинными ногами, раскачивая горбоносыми головами. Солдаты, вышедшие из боя, продолжали пить, словно в каждом горела груда углей.
Он понимал, что присутствует на неведомой войне, является ее участником, и эта война без него невозможна. Через бесчисленные причинно-следственные связи она рождается здесь, сегодня, в утлой избушке с тиканьем ходиков и стуком в окно колючей ветки шиповника. Она рождается из его движений, мерцания зрачков, мыслей об этой войне. И если нарушить ход сиюминутных движений и мыслей, круто изменить поведение неожиданным поступком и мыслью, то собьется весь ход причинно-следственных превращений, пойдет в иную сторону, и войны не случится. Он обманет войну, обыграет, не даст ей зародиться в этой ночной каморке с высыхающей под потолком беличьей шкуркой, с его испуганной шальной мыслью.
Ему казалось, что он нашел средство избавить мир от войны, избавить себя от участия в этой войне. Он поднял руку и резко провел пятерней по волосам. Взял ручку и на чистом листе бумаги нарисовал крест, обведя его кругом, – символ, разрушающий истоки войны. Вспомнил о невесте, как они лежали в ее комнате в темноте, окно было распахнуто, шумел дождь, пахло железными крышами, и он ее целовал бесстыдно, страстно, видя ее всю своим хищным мужским зрением. Она, не стыдясь, позволяла себя целовать, и губы ее в темноте улыбались. И это страстное воспоминание смещало его относительно той точки, где должна была зародиться война.
Он встал, осторожно, чтобы не скрипели половицы. Прошел мимо спящей тети Поли к дверям. Отворил дверь в сени. Вышел и, чувствуя плечами морозный воздух, нашел в темноте лежащую на овчине собаку. Она слабо визгнула, лизнула ему руку, и он гладил ее по загривку, думая, что и это поглаживание меняет весь последующий ход событий, уводя его от войны, мешая ей зародиться.
Вернулся в избу. Смотрел на лист бумаги с крестом и овалом. Но символ, останавливающий войну, не действовал. Лист покрывался его болезненными письменами.
В модуле за помещением медсанбата, под яркой электрической лампочкой на дощатом топчане лежал убитый лейтенант. Он был голый, и солдат-узбек ополаскивал его из шланга. Струя разбивалась о грудь лейтенанта, теребила пах, ударяла в лицо, рыхлила рот. И тогда казалось, что лейтенант жадно пьет, хватает струю бурлящими губами. Золотистый хохолок почернел от влаги. Все его ладное, мускулистое обнаженное тело стеклянно блестело. Другой узбек поставил на электроплитку банку с оловом, смотрел, как на расплавленном металле дергается мутная пленка. Тут же стоял жестяной гроб, в который оба узбека переложили мокрого лейтенанта. Нарыли крышкой со смотровым оконцем, в которое выглядывало остроносое, с русыми усиками лицо. Тут же лежал большой паяльник с остатками запекшегося олова. Стояла скамья с тряпьем. Узбеки, смуглые, изможденные, с печальными лицами, сели на скамью. Один достал из кармана кусок сахара в синей бумажной обертке. Отломил половину и отдал товарищу. Оба сидели и медленно грызли сахар. Лейтенант выглядывал на них из оконца.
Суздальцев в валенках, в вязаном свитере, сидя за столом у окна, уже вполне уподобился тете Поле, для которой это маленькое, заклеенное бумагой оконце с зябким полузамерзшим цветком было окном в мир. Через это оконце поступали знаки, сигналы и сведения о происходящей за пределами избы жизни. Давали представление о деревенских событиях, их повседневных участниках и героях. Прошел деревенский плотник Федор Иванович, однорукий, с пристегнутым рукавом телогрейки. Топор с белой, как кочерыжка, рукоятью торчал за поясом, а в здоровой руке он нес какие-то доски. Проехали сани с бойкой заиндевелой лошадкой. В санях стояли ящики с водкой, а возница сельпо суровый мужик Антон Агеев полулежал на соломе. К колонке с ведрами на коромысле подошла деревенская красавица Елена Злотникова, рыжая, в цветастом платке, в кокетливой шубе и маленьких ловких валенках. Не глядя по сторонам, таинственно улыбаясь, поставила ведра, наполнила их одно за другим, колыхнув бедром, поддела на крюки коромысла и понесла, роняя капель, плавная, осторожная, плывущая среди снегов со своим цветастым платком и волшебной улыбкой. Проезжали «уазики» с совхозными инженерами, синие колесные трактора с тележками, из которых пали на дорогу клочки зеленого силоса. Прокатил автобус, возивший пассажиров от железнодорожной станции по окрестным деревням. Все было интересно Суздальцеву, все касалось его, деревенского жителя.