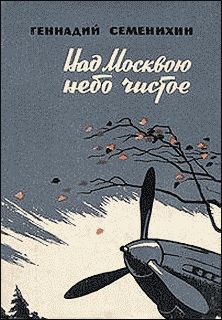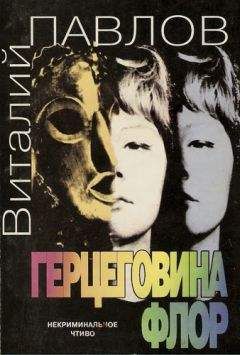— И скорбеть по ней, как по покойнику, не будешь?
— Да нет же, товарищ лейтенант.
— Ва! — восторженно воскликнул Бакрадзе. — Так неси ее, пока ты такая щедрая. Мы все-таки остановим, а точнее сказать, продлим мгновение.
Они дружно чокнулись, а потом больные принялись за ужин, поставив в изголовье кроватей свои скрипучие костыли. Веня, который с туго забинтованной ногой-култышкой обходился уже без них, прихрамывая, добрался до своей койки, два раза поморщившись при этом. «Делаю каких-нибудь полтора десятка шагов, а как покалывает. Вот что значит задета кость».
Лена ему последнему подала ужин. Наклонившись, теплыми губами коснулась мочки его уха.
— Сегодня приду к тебе под утро, ясно? — прошептала она.
— Ясно, товарищ командир.
— Почему «командир»?
— А потому, что, когда мы поженимся, еще неизвестно, кто кем будет командовать. Скорее всего, ты мною. У тебя для этого все задатки налицо, а я добряк.
Легкие ее шаги погасли за дверью. Якушев, лежа на кровати, глубоко вздохнул и потянулся. Ожидание предстоящей встречи навеяло добрую тихую радость. «Все-таки хороша Лена. До чего же она хороша своей душой, добротой, искренностью и этим ласковым, проникающим в душу взглядом светлых глаз, преданностью, которой пронизано каждое ее движение, каждая добрая шутка. Нет, ему не надо иной в этом мире, опаленном войной, человеческими страданиями и надеждами. В мире бинтов, йодоформа, белых халатов и осенней, надвигающейся на весь мир слякоти на дорогах отступления. И как же был не прав Вано Бакрадзе, который, махнув рукой однажды, пренебрежительно произнес:
— Каждая женщина — это целая биография, а мужчина в ней чаще всего лишь эпизод.
Нет, они проживут с Леной вместе целую вечность, если она, эта вечность, только есть на свете или, вернее, если ею можно назвать человеческую жизнь. Проживут без единой размолвки и единого недоброго взгляда друг на друга».
Однажды, когда у них обоих было очень хорошее настроение и она похвалила Бакрадзе, сказав: «Какой он привлекательный и какая у него осанка», Веня, сделав устрашающие глаза, пригрозил:
— Ты мне поговори, ты мне поговори, я тебе запрещаю на других заглядываться.
— А куда же мне гляделки девать, если природа меня ими наградила, — подстрекательски засмеялась Лена.
— Ах, ты так! — воскликнул Веня. — Тогда я поеду в Ташкент, куплю там у самой древней старухи чадру или стащу в музее, чтобы надеть на тебя.
— Не спасешься, — захохотала Лена, — в чадре тоже есть прорези для глаз. — И стала его исступленно целовать.
Веня лежал на сцепленных за затылком ладонях, улыбаясь, смотрел в потолок с надтреснутой штукатуркой. На какое-то время его все же сковал незаметно подкравшийся сон. Однако он вскоре очнулся, почувствовав в ту же минуту не разумом, а интуицией скорее, что в госпитале и за стенами его что-то происходит. Сквозь зашторенные окна пробивался запоздалый осенний рассвет. Он еще окончательно не окреп. «Ночь, очевидно, не миновала», — подумал Якушев, но отчего же вдруг стало так светло. В трех окнах, выходивших на поселок, появился какой-то неестественно ровный, устойчивый, мертвенно-желтый свет. Только сейчас Веня обратил внимание на то, что Сошников и Бакрадзе, приподнявшись в своих кроватях, тоже чутко вслушиваются в ночь.
— Это он САБы[1] сбросил, — хриплым шепотом сказал наконец Бакрадзе.
Сипло дышал Сошников, и казалось, так громко, будто кто-то вставил в его грудь кузнечный мех и непрерывно его накачивает. Очевидно, в этом дыхании политрук старался утопить и ожидание и волнение, а быть может, и зародившийся страх. Наконец совладав с собой, он негромко сказал:
— Чего ж особенного. Все по стандарту. Сначала лидер сбросил осветительную бомбу, а за ним идет целая группа.
— Кажется, Ю-88, — хмыкнул летчик. — Ну, держись, политрук, сейчас заварится каша. Тебя кошки по сердцу не царапают?
— Да есть немного.
— Минутку обожди, — прокомментировал Бакрадзе, — сейчас загрохает. Терпеть не могу, когда бомбежка застанет тебя на земле. В полете хоть из пушки огрызнуться можно, да и стрелок поможет, а тут совершенно беззащитен. Совсем как подопытный кролик под скальпелем у хирурга. А как там наш Ромео? Удалилась ли его Джульетта на безопасное расстояние?
Бакрадзе подыгрывал, но напряженный голос его не был веселым. Якушев не успел ответить. Слитно наплывающий гул чужих моторов, чуть прерывистый, с басовитыми подвываниями, свойственными лишь двухмоторным немецким «юнкерсам», словно бы поднялся на самую высокую ноту. Казалось, что вражеские самолеты так низко летят, что вот-вот снесут крышу.
— Свет… Вырубите свет! — раздался в коридоре чей-то заполошный выкрик, но его тотчас же перекрыл чей-то сдержанный спокойный бас:
— Ну чего паникуешь? Давно все выключено. Это они осветительную подвесили.
А гул чужих авиационных моторов все крепчал и крепчал, так что казалось, будто целая армада вражеских самолетов собирается совершить посадку рядом с госпиталем, если не на его крышу. В этот гул внезапно вплелись отчаянные залпы зениток, от которых за тощими светомаскировочными шторами забрезжили острые полоски света.
— Никуда не годится светомаскировка, — пробормотал Сошников, — что она есть, что ее нет.
— Откуда же ее хорошую взять, — буркнул Бакрадзе. — Сплошное решето, а не шторы. Ты чего молчишь, Якушев?
— А вам разве станет легче, командир, от того, что я заговорю? — натянуто усмехнулся Веня.
— Ты нам с политруком лучше сказку про белого бычка… — начал было грузин, но не договорил.
За окнами госпиталя навзрыд застонали сброшенные фугаски. Сколько раз на горьком пути отступления от Бреста к Москве слышали бойцы и командиры этот отчаянный визг и рев, так безошибочно действующий на нервы. Как мало времени уходило на путь невидимой бомбы, летевшей от крыла «юнкерса» до земли, но сколько раз менялась за это время окраска звука!
Едва успев отделиться от крыла, сброшенная бомба маленьким, исчезающим из зрения комочком начинала свой устрашающий путь смерти. Проходили считанные мгновения — и у нее прорезывался голос. Сначала негромкий, но злобный, а вскоре переходящий в надрывный стон, который становился все громче и громче по мере приближения к земле. Этот звук, рожденный весом и скоростью падения фугаски, из тонкого и заунывного, каким был вначале, у самой земли превращался в стонущий рев, оглушая все в радиусе своего действия. Будто адский хохот пробуждался в нем. И тому, кто находился рядом, иногда, может быть, в самые последние секунды собственной жизни мерещилось, будто он осязаемо видит огромное черное тело бомбы. А те, кто находились поблизости от эпицентра, получали нередко тяжелые контузии, теряя на длительное время слух, а то и зрение.
— Ва! Вы посмотрите, как он смеется, — мрачно прокомментировал Вано. — Он хочет нам спеть бессмертную арию «Смейся, паяц», за которой последует другая, сочиненная великим композитором Гуно, — «Сатана там правит бал». Ну, давай, что ли, Шаляпин!
Прибавить Бакрадзе ничего уже не успел. Рвануло так, что хлипкое здание госпиталя заходило ходуном. С крыши посыпались кирпичи и листы кровельного железа, захлопали разом распахнутые двери, со звоном полетели на пол жалкие осколки стекла. А потом, короткая по времени, над землей прокатилась гнетущая тишина. Неожиданно Веня услыхал отчаянный крик и немедленно узнал безумно знакомый голос:
— Люба, Люба, да куда же ты! Задержите ее, под новые бомбы попадет, погибнет!
На помощь звала Лена. Веня вспомнил совсем недавно навещавшую их палату медсестру Любочку, пухленькую коротышку с веснушками на лице и сильным для девушки басовитым окающим голосом. То, о чем при иных обстоятельствах надо было бы рассказывать долго и пространно, он представил себе в секунду. Бедная девушка, оглушенная взрывной волной, потеряла над собой контроль. Едва ли она отдавала себе отчет, куда и зачем побежала. Веня понял, что сейчас надо вернуть обезумевшую от страха девчонку, иначе она погибнет. Гремя костылем и уродливо прихрамывая при этом, на глазах у остолбеневших Сошникова и Бакрадзе он выскочил в коридор, забыв об острой боли, проскакал мимо оцепеневших врачей и медсестер, которые с застывшими от ужаса лицами бестолково жались к давно не беленным стенам. Никто из них даже не попытался его остановить, потому что в воздухе над крышей госпиталя с задранными листами железа уже заныла новая серия бомб.
Якушеву не понадобилось открывать дверь. В это мгновение от воздушной волны она сама перед ним распахнулась, как в недочитанной старой сказке про нечистую силу. Голос Лены, какой-то сдавленный и нереальный, даже не проник в его сознание:
— Веня, куда ты!.. Вернись!
Не ответив, он выбежал за порог. Слитный гул надвигающейся очередной пятерки «юнкерсов» потонул в нарастающем вое сброшенных бомб. Веня увидел в нескольких метрах от себя окаменевшую Любу с запрокинутой в небо коротко остриженной головой. И он мгновенно понял, что, если не сделает сейчас чего-то немыслимого, не управляемого никакими законами логики, ее больше не будет. Бомбы, подстегнутые звереющим ревом своего падения, как ему показалось, должны были накрыть ее прямым попаданием. Отбросив костыль, цепенея от страшной боли, он подбежал к медсестре, отчаянно выругавшись, закричал ей в самое ухо: