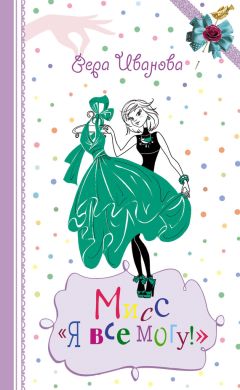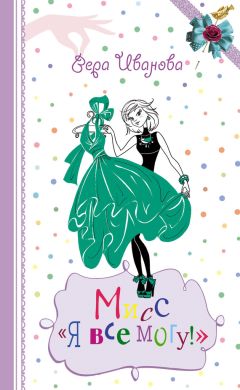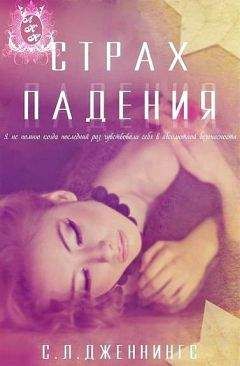Я остался один и глядел, как Блонди удаляется в сторону палаточного лагеря. Я физически выдохся, но сохранял ясность мыслей, в мозгу проносились события этих двух дней. Мне надо было с кем-то поговорить. Я поспешил за Блонди и догнал его у палатки.
— У тебя нет еще одной сигаретки? — попросил я. — Мне надо успокоиться.
Он усмехнулся:
— Я и сам не прочь покурить. Еще одну дам, а потом добывай сам. Это нетрудно. Все достают это добро.
Блонди увел меня за палатку, и мы сели на землю.
— Я открыто не курю, только в патруле. — Тут всегда крутится пара усердных сержантов, которые, стараются еще больше отравить жизнь. Я не хочу давать им пищу.
Мы закурили. Марихуана действовала хорошо. Мой мозг отделялся от ноющих костей. Мы молча сидели, наслаждаясь прохладным ночным воздухом. Приятно было освежиться после удушающей жары долины. С каждой затяжкой образы смерти медленно отступали. Я погружался в какое-то туманное небытие. По-иному действовала травка на Блонди. Словно издалека до меня доносилось жужжание ею голоса. Он был в своем раю, мечтая о плотских наслаждениях. Меня с ним не было. Потом он вернулся во Вьетнам.
— Тридцать дней, Гласс. Один несчастный месяц — это все, что мне осталось пройти.
— Надеюсь, что пройдешь, — сказал я.
— Надейся, черт возьми!
— Доллу не пришлось…
— Плевать на Долла. Сам виноват. А я не убийца. Ты что, хочешь меня напугать?
— Нет. Ты меня не так понял. Я хочу, чтобы ты выжил. Ты хороший парень.
Блонди хмыкнул, и мы опять замолчали, докуривая остатки сигарет. Наконец я спросил:
— Что значит «сам виноват»?
— Это значит, что убийцы обычно получают по заслугам. Так часто, случается.
Я еще больше заинтересовался:
— В конце концов их убивают вьетконговцы, да?
— Вьетконговцы, как бы не так! — Он закурил новую сигарету и передал мне: — Выкурим вместе. Что-то паршиво на душе.
Я медленно, глубоко затянулся и вернул ему сигарету.
— Но ведь Долла убил вьетконговец? Он хитро улыбнулся:
— Тебе еще многому надо поучиться, Гласс. И времени для этого предостаточно.
Я беззлобно ухмыльнулся:
— Ты что, хочешь меня напугать, Блонди?
Он покачал головой, затянулся и уставился на догорающую сигарету.
— Эта штука проясняет и прочищает мозги; как-то резче видишь вещи. Понимаешь меня? А с тобой тоже так?
— Да. — Я бежал впереди и терпеливо ждал, пока он догонит.
Он передал мне сигарету:
— Докуривай. Я больше не хочу. — Он закрыл глаза и откинул голову на угловой кол палатки: — Помнишь, я говорил тебе о случаях, когда свои убивают своих?
— Как же, помню.
— Так теперь ты знаешь.
— Что знаю?
— Долла убили свои.
— Почему ты так думаешь?
Блонди рассмеялся:
— Ты слышал, что произошло, и видел результаты. А теперь сопоставь.
— Ты сам сопоставь.
— Пожалуйста. Долл пошел в поле, откуда стреляли вьетконговцы, так? Томас пошел сразу за ним, так? Потом мы услышали одиночный выстрел, а за ним короткую очередь. Томас возвращается один и рассказывает свою историю, а мы идем за Доллом — и что же находим?
— То, что сказал Томас.
— Да, но не совсем то. Три мертвых гука, застреленные, к чертовой матери, но у одного лишняя свежая дырка в башке. Я думаю, эту дырку пробил Долл. А потом ему разнесли голову. Я считаю, что это сделал Томас.
— Почему ты так считаешь?
— Я слышал выстрелы, как и ты. Я не могу отличить одиночный выстрел М-16 от гуковского автомата, но очередь М-16 знаю хорошо. Это была М-16. Долл не стал бы поворачиваться спиной к гуку, если бы не убедился, что он мертв. Кроме того, у него снесен весь затылок, ты видел. Такого не сделаешь одной пулей.
— Значит, Томас убил Долла?
— Да. Наверное, Долл собирался продырявить головы двум другим, когда Томас его застрелил.
— Но почему?
— Потому что Долл был садист и сволочь. Он заставил Томаса лежать под огнем рядом со Стариком, а потом вырвал у него командование и повел нас до конца этой проклятой лощины без всякой надобности, только чтобы прославиться и выглядеть героем. Все это накапливалось в душе Томаса, и он выбрал подходящий момент. Это хитрая бестия. Он замел все следы.
— Но он убил своего.
— Он убил сукина сына, подлого убийцу, который завел нас в засаду. А солдаты, убитые по вине Долла? Они в счет не идут?
— Конечно идут. Но Долл их не убивал. Тут есть разница.
— Я не хочу проливать кровь ни за какого Долла. Мы все из-за него могли погибнуть.
— И никто не узнает, что сделал Томас, кроме нас с тобой?
— Каждый солдат знает, если только это не первый его патруль, как у тебя. И медики узнают, когда достанут пулю из черепа Долла. Они умеют отличить пулю М-16 от пули гуковского автомата.
— И никому не скажут?
— Никто никому не скажет. Это не их дело. А ты собирался разболтать лейтенанту, а? Ручаюсь, что ты все еще страдаешь из-за того мальчишки у реки.
Я кивнул.
— Брось, Гласс. Не глупи. Хорошо, что ты мне рассказал.
— Мне нужно было с кем-то поговорить. Как ты можешь с этим мириться?
— Приходится мириться, парень, иначе сойдешь с ума. Я тебе говорил об этом.
— Но это неправильно. Неужели ты не понимаешь?
— Я понимаю систему, приятель. Не брыкайся, а то пропадешь.
— Система должна отвечать за то, что делается.
— Я уже сказал, Гласс, что тебе еще многому надо поучиться. Если пойдешь к лейтенанту с этой историей, тебя пристрелят или отправят в психичку, прежде чем узнаешь за что. Хочешь наделать глупостей — валяй. Но ты не видел, что сделал Томас, правда? Ведь ты не видел своими глазами? А если и видел, они не хотят этого знать. Ты бы просто навредил машине, а этого никто не хочет. Никто! Эта война — просто убийство. Все дело в том, чтобы побольше убить и иметь поменьше убитых, пока кто-нибудь не решит, что хватит. Мне осталось тридцать дней, а потом катись они все к чертовой матери.
— А что скажет Томас лейтенанту?
— Именно то, что хочет услышать лейтенант. Он справится с этим что надо.
— И Томасу ничего не будет?
— Чем тебе не нравится Томас? Он хороший парень. Делает свое дело. Он не убийца.
— Ты далеко ушел от меня, Блонди.
— Да, на триста тридцать три дня. Но ты научишься. Отслуживай свой срок, держи язык за зубами и отсчитывай дни. Это не жизнь, а долгий, мучительный кошмар. Когда проснешься, забудешь все, что было.
— Я никогда не забуду эти два дня.
— Лучше забудь, парень, а то погубишь себя.
После разговора с Блонди я стал другим человеком. Я смотрел на вещи еще не так, как он, но иначе, чем во время своего первого патрулирования. У Блонди был жесткий, практический взгляд, с которым я не мог мириться. Но насчет системы он был прав: либо приспособишься к ней, либо пропадешь. Со временем я приспособился, но по-своему.
Я теперь часто думаю о Блонди в своей камере. После нашего разговора я его больше не видел. Слышал, что его перевели в другую роту. Я спрашивал о нем, и кто-то сказал мне, что он отслужил свои триста шестьдесят пять дней и уехал домой. Я иногда спрашивал себя, читает ли он газеты и знает ли, что со мной случилось, и что он обо всем этом думает. Иногда я слабо надеюсь, что услышу о нем, хотя знаю, что глупо на это рассчитывать. Я уверен, что ему удалось забыть обо всем случившемся и что он живет где-то, все еще отслуживая свой срок и держа язык за зубами. Надеюсь, что это так. Он был хороший парень и я рад, что так и не рассказал ему, как Томас спас ему жизнь тогда в лощине. Он никогда не забыл бы об этом.
Когда я в тот вечер вернулся в свою палатку, мой сосед сидел, перелистывая иллюстрированный журнал с фотографиями женщин. Он прибыл в лагерь три дня назад — вместе со мной прямо из Соединенных Штатов. Я забыл его имя и не успел как следует его узнать. Он казался довольно славным парнем, с нетерпением ожидавшим первого боевого задания. Помню, когда я вошел в палатку, он отложил журнал и смотрел, как я раздеваюсь. Он терпеливо ждал, пока я заберусь в постель, прежде чем заговорить.
— Как там было? — наконец спросил он.
Я смотрел на его ясное, розовое лицо; он жадно изучал меня, а я думал обо всем, что случилось со мной с тех пор, как я оставил его спящим, когда сержант Стоун вызвал меня из палатки.
— Ты еще не выходил? — спросил я.
— Иду патрулировать завтра утром. Как там?
— Трудно.
— Да, я слышал. Нам говорили. Говорят, вас здорово обстреливали?
— Да.
— Но ты уцелел.
— Мне повезло. Но горюй. Делай то, что приказывают, и будет все в порядке.
— Вьетконговцы упорные, да?
— Да.
— Расскажи, что там было.
Что я мог ему рассказать? О мальчике на берегу реки? О сержанте Стоуне, которого взорвали и обезглавили? Об отрезанных ушах и пальцах рук и ног? О том, как мы попали в засаду? О Долле? О Томасе? О моем друге Блонди? Разве это ему поможет?