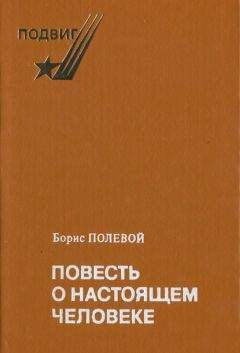Вместе со стариком осторожно уложили они спеленатого Алексея на носилки. Варя собрала и свернула в узелок его вещички.
— Вот что, — остановил ее Алексей, когда стала она засовывать в узелок эсэсовский кинжал, который не раз с любопытством осматривал, чистил, точил, пробовал на палец хозяйственный дед Михайла, — возьми, дедушка, на память.
— Ну, спасибо, Алеха, спасибо! Сталька знатная, гляди-ка. И написано что-то не по-нашему вроде. — Он показал кинжал Дегтяренко.
— «Аллес фюр Дойчланд» — «Все для Германии», — перевел Дегтяренко выведенную по лезвию надпись.
— «Все для Германии», — повторил Алексей, вспомнив, как достался ему этот кинжал.
— Ну, берись, берись, старик! — крикнул Дегтяренко, впрягаясь в передок носилок.
Носилки заколыхались и с трудом, осыпая землю со стен, пролезли в узкий проход землянки.
Все, кто набился в нее провожать найденыша, хлынули наверх. Только Варя осталась дома. Не торопясь поправила она лучину в светце, подошла к полосатому тюфяку, еще хранившему вмятые в него очертания человеческой фигуры, и погладила его рукой. Взгляд ее упал на букет, о котором впопыхах все позабыли. Это было несколько веточек оранжерейной сирени, бледной, чахлой, похожей на жителей беглой деревеньки, проведших зиму в сырых и холодных землянках. Женщина взяла букет, вдохнула хилый, еле уловимый в угарной копоти нежный весенний запах и вдруг повалилась на нары и залилась горькими бабьими слезами.
Провожать неожиданного своего гостя вышло все наличное население деревни Плавни. Самолет стоял за лесом на подтаявшем у краев, но еще ровном и крепком льду продолговатого лесного озерка. Дороги туда не было. По рыхлому, крупитчатому снегу, прямо по целине, вела стежка, протоптанная час назад дедом Михайлой, Дегтяренко и Леночкой. Теперь по этой стежке валила к озеру толпа, возглавляемая мальчишками со степенным Серенькой и восторженным Федькой впереди. На правах старого Друга, отыскавшего летчика в лесу, Серенька солидно шагал перед носилками, стараясь, чтобы не застревали в снегу огромные, оставшиеся от убитого отца валенки, и властно покрикивал на чумазую, сверкавшую зубами, фантастически оборванную детвору. Дегтяренко и дед, шагая в ногу, тащили носилки, а сбоку, по целине, бежала Леночка, то подтыкая одеяло, то закутывая голову Алексея своим шарфом. Позади грудились бабы, девчонки, старухи. Толпа глухо гомонила.
Сначала яркий, отраженный снегом свет ослепил Алексея. Погожий весенний день так ударил ему в глаза, что он зажмурился и чуть не потерял сознание. Легонько приоткрыв веки, Алексей приучил глаза к свету и тогда огляделся. Перед ним открывалась картина подземной деревни.
Старый лес стоял стеной, куда ни глянь. Вершины деревьев почти смыкались над головой. Ветви их, скупо процеживая солнечные лучи, создавали внизу полумрак. Лес был смешанный. Белые колонны голых еще берез, вершины которых походили на сизые, застывшие в воздухе дымы, соседствовали с золотыми стволами сосен, а между ними то тут, то там виднелись темные треугольники елей.
Под деревьями, защищавшими от вражьих глаз и с земли и с воздуха, где снег был давно вытоптан сотнями ног, были накопаны землянки. На ветвях вековых елей сохли детские пеленки, на сучьях сосенок проветривались опрокинутые глиняные горшки и кринки, а под старой елкой, со ствола которой свешивались бороды седого мха, у самого ее могучего комля, на земле меж жилистыми корнями, где по всем статьям полагалось бы лежать хищному зверю, сидела старая, засаленная тряпичная кукла с плоской добродушной физиономией, нарисованной чернильным карандашом.
Толпа, предшествуемая носилками, медленно двигалась по вытоптанной на мху «улице».
Очутившись на воздухе, Алексей ощутил сначала бурный прилив неосмысленной животной радости, потом на смену ей пришла сладкая и тихая грусть.
Маленьким платочком Леночка утерла с его лица слезы и, по-своему истолковав их, приказала носильщикам идти потише.
— Нет, нет, быстрее, давайте быстрее, ну! — заторопил Мересьев.
Ему и без того казалось, что его несут слишком медленно. Он начал бояться, что из-за этого можно не улететь, что вдруг самолет, посланный за ним из Москвы, уйдет, не дождавшись их, и ему не удастся сегодня попасть в спасительную клинику. Он глухо стонал от боли, причиняемой ему торопливой поступью носильщиков, но все требовал: «Скорее, пожалуйста, скорее!» Он торопил, хотя слышал, что дед Михайла задыхается, то и дело спотыкается и сбивается с ноги. Две женщины сменили старика. Дед Михайла засеменил рядом с носилками, по другую сторону от Леночки. Вытирая офицерской своей фуражкой вспотевшую лысину, побагровевшее лицо, морщинистую шею, он довольно бормотал:
— Ишь гонит, а? Торопится!.. Правильно, Леша, истина твоя, торопись! Раз человек торопится, жизнь в нем крепка, найденыш ты наш разлюбезный. Что, скажешь — нет?.. Ты нам пиши из госпиталя-то! Адресок-то запомни: Калининская область, Бологовский район, будущая деревня Плавни, а? Будущая, а? Ничего, дойдет, не забудь, адресок-то верный!
Когда носилки поднимали в самолет и Алексей вдохнул знакомый терпкий запах авиационного бензина, он снова испытал бурный прилив радости. Над ним закрыли целлулоидную крышку. Он не видел, как махали руками провожающие, как маленькая носатая старушка, похожая в своем сером платке на сердитую ворону, преодолевая страх и поднятый винтом ветер, прорвалась к сидевшему уже в кабине Дегтяренко и сунула ему узелок с недоеденной курятиной, как дед Михайла суетился вокруг машины, покрикивая на баб, разгоняя ребятишек, как сорвало с деда ветром фуражку и покатило по льду и как стоял он, простоволосый, сверкая лысиной и серебристыми жиденькими сединками, развеваемыми ветром, похожий на Николу-угодника немудреного сельского письма. Стоял, махая рукой вслед убегающему самолету, единственный мужчина в пестрой бабьей толпе.
Оторвав самолет от ледяного наста, Дегтяренко прошел над головами провожавших и осторожно, почти касаясь лыжами льда, полетел вдоль озера под прикрытием высокого обрывистого берега и скрылся за лесистым островом. На этот раз полковой сорвиголова, которому на боевых разборах частенько доставалось от командира за излишнюю лихость в воздухе, летел осторожно, — не летел, а крался, льнул к земле, шел по руслам ручьев, прикрываясь озерными берегами. Ничего этого Алексей не видел и не слышал. Знакомые запахи бензина, масла, радостное ощущение полета заставили его потерять сознание, и очнулся он только на аэродроме, когда его носилки вынимали из самолета, чтобы перенести на скоростную санитарную машину, уже прилетевшую из Москвы.
Он попал на родной аэродром в самый разгар летного дня, загруженного до предела, как и все дни той боевой весны.
Гул моторов не затихал ни на минуту. Одну эскадрилью, севшую на дозаправку, сменяла в воздухе другая, третья. Все, от летчиков до шоферов бензоцистерн и кладовщиков, выдававших горючее, сбились в этот день с ног. Начальник штаба потерял голос и теперь исторгал какое-то пискливое сипенье.
Несмотря на всеобщую занятость и чрезвычайное напряжение, все в этот день жили ожиданием Мересьева.
— Не привезли? — кричали пилоты механикам сквозь рев мотора, еще не подрулив к своему капониру.
— А об нем не слыхать? — интересовались «бензиновые короли», когда очередной бензовоз подруливал к закопанным в землю цистернам.
И все слушали, не трещит ли где-нибудь над леском знакомый полковой санитарный самолет…
Когда Алексей очнулся на упруго покачивающихся носилках, он увидел плотный круг знакомых лиц. Он открыл глаза. Толпа обрадованно зашумела. Возле самых носилок увидел он молодое неподвижное, сдержанно улыбающееся лицо командира полка, рядом с ним широкую красную и потную физиономию начальника штаба и даже круглое, полное и белое лицо командира БАО — батальон аэродромного обслуживания, — которого Алексей терпеть не мог за формализм и скупость. Сколько знакомых лиц! Носилки несет долговязый Юра. Он все время безуспешно старается оглянуться назад, посмотреть на Алексея и потому спотыкается на каждом шагу. Рядом бежит рыженькая девушка — сержант с метеостанции. Алексею раньше казалось, что она за что-то не любит его, старается не попадаться ему на глаза и всегда исподтишка следит за ним каким-то странным взглядом. Шутя он называл ее «метеорологическим сержантом». Возле семенит летчик Кукушкин, маленький человек с неприятным, желчным лицом, которого в эскадрилье не любят за вздорный нрав. Он тоже улыбается и старается попадать в такт огромным шагам Юры. Мересьеву вспомнилось, что перед отлетом он в большой компании зло разыграл Кукушкина за не отданный им долг, и был уверен, что этот злопамятный человек никогда не простит ему обиды. А вот сейчас он бежит около носилок, бережно поддерживает их и свирепо расталкивает локтями толпу, чтобы предохранить его от толчков.