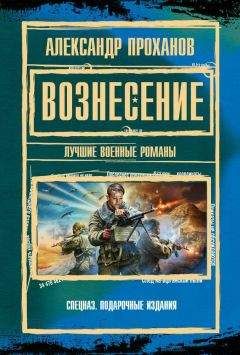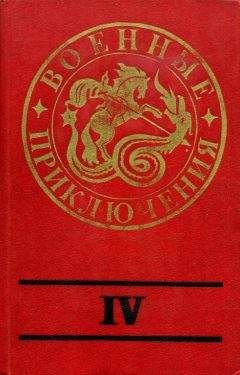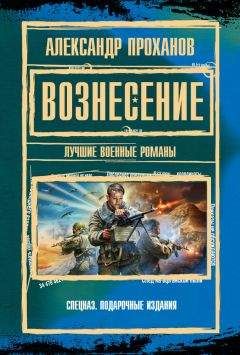— Что здесь? — спросил Калмыков.
— Не знаем! — Солдаты гасили фонари, воровато оглядывались, расходились.
Он вошел и в гулком свете среди перевернутой мебели, разгромленных шкафов, развороченных постелей услышал возню, частое жаркое дыхание.
Его фонарь осветил комья одеял и подушек, здоровенного, с голым задом солдата, лежащего на женщине. Ее голые синеватые колени были раздвинуты, голые руки разбросаны. Солдат давил ее лицо своей лохматой головой, ерзал, хрипел.
— Мразь!.. Отставить!.. Убью!.. — крикнул Калмыков, ударил солдата в обнаженную мускулистую поясницу. — Пристрелю!
Солдат оглянулся оскаленным безумным лицом. Фонарь осветил слюнявые губы, черные усики, мокрую кровавую ссадину на скуле.
— Уйди! — прохрипел солдат.
— Мразь! — орал Калмыков, ударяя из автомата в потолок, чувствуя, что сейчас наведет ствол на лохматую башку, снесет в упор череп.
Солдат, матерясь, неуклюже слез. На четвереньках, оглядываясь, хрипя от страсти и ненависти, пополз к дверям, а женщина осталась лежать, недвижная, с большими расплывшимися грудями.
— Баранов! — Калмыков увидел входящего ротного. — Сам встань у дверей… Бабу береги… Если что, стреляй… — Потащился на третий этаж.
Он увидел солдатика, сдиравшего с окна гардину. Тот дергал тяжелую ткань, она трещала, рвалась, сползала на голову солдата.
— Что ты делаешь? Зачем тебе? — беззлобно и безнадежно спросил Калмыков.
— Товарищ полковник приказал! — ответил солдат, выпутываясь из матерчатого свитка.
— Это ты, Калмыков? — Татьянушкин в своей короткой распахнутой куртке возник в снопе света. — Живой? Ну и ладно… Я приказал… В занавеску хмыря завернуть…
Он повернул в сторону свой фонарь. Пробежал лучом по разгромленному, с осколками бутылок бару. Скользнул по резной золоченой стойке. И у стойки на полу, вытянув босые ноги, в трусах и майке, лежал Амин. Одутловатое лицо свернулось набок. Темнела на губах сукровь. Стеклянно, недвижно выпучились глаза.
— Опознают его, и к чертям!..
Весь Дворец, от подвалов до крыш, дышал, хрустел, стонал. Был как женщина, которую насилуют. Срывают покровы, сдергивают драгоценности, бьют, заваливают, мучают непрерывной сладострастной мукой. И запах был — пота и крови. Запах бойни.
Калмыков подошел к окну, без стекол, с вырубленными кирпичами. Здесь поработали скорострельные «Шилки». Кабул вдали туманился, в нем ухали взрывы, колебались пожары.
Он, Калмыков, крохотная песчинка, малый и слабый, был выбран для жестокого деяния. Он смотрел на дело рук своих, на красные пожары в ночном азиатском городе, и Дворец стонал непрерывным задушенным стоном.
Вся его сознательная военная жизнь, где преобладали упорная работа, преодоление, чувство тревоги, была воплощением грубых материальных энергий, очерствлявших душу, огрублявших мысль. Но среди грубого и жестокого бытия оставался малый потаенный заповедник, в который он редко заглядывал, но знал о нем по слабому лучику света, бьющему из-под старинной, тесно прикрытой двери. Он предчувствовал: когда проживет свою жизнь, одряхлеет, ослабеет умом и телом, когда сгорят все грубые, поддающиеся тлению материи, он двинется по этому лучику света и найдет ту старинную дверь. Там откроется ему знакомая, с детства любимая комната, высокое мутноватое зеркало, буфет с голубыми чашками, и в креслице будет сидеть бабушка, поджидая его. Они усядутся рядом, возьмут друг друга за руки, станут рассказывать, как жили порознь, друг без друга. Она посмотрит на него своими чудными карими глазами и скажет: «Мое солнышко!.. Мой милый, мой милый мальчик!..»
Калмыкову казалось, он на мгновение задремал у разбитого ночного окна. Очнулся — за окном тусклое мглистое утро, белые дали, черная путаница деревьев. Комната, в которой он задремал, — разгромленная богатая спальня, скомканная кровать, золоченый шнур с кистью и засохший размазанный след от кровати к порогу.
Он услышал налетающий свист, ожидая удара и взрыва. Свист перешел в оглушительный рев, и в небе вырастающей точкой возник самолет. Накрыл Дворец камуфлированным треугольником, и Калмыков успел разглядеть красную звезду на хвосте.
Самолет ушел, невидимый, взмыл над кровлей, оставляя рубец звука. И вторая машина, вслед первой, возникла на бреющем, протыкая зимнее небо отточенным острием. Круто, задирая нос, взмыла над Дворцом. Калмыков, опираясь на обугленный подоконник, увидел пятнистый киль и красную звезду.
Первая машина, совершив петлю, стала увеличиваться из малой точки, обрушилась на город, неся ему разящий удар звука, страх разрушения, падающее, рассеченное небо.
Город после ночной смуты получил под утро беспощадные, крест-накрест удары по плоским крышам, лавкам базаров, глазурованным чашам мечетей. Жители, слыша, как в продырявленное небо хлещет жестокий металлический вой, скрылись в жилищах.
«Это я… Мое утро…» — думал Калмыков, подтягивая за ремень автомат. Переступил раздавленную стеклянную крупу очков. По высохшему грязно-ржавому следу вышел из спальни.
След вел по коридору, словно протащили мокрую швабру. Калмыков старался не наступать на высыхающую полосу, озирал утренний Дворец. Стены казались скользкими, в подтеках, в жирной копоти. Солдаты сидели, спали на полу вповалку, прижавшись друг к другу. Их лица казались синими, неживыми, в проступивших трупных пятнах.
Он шел по следу, слыша, как снаружи, над крышей, выходит из пике самолет, сотрясая штукатурку стен, остатки стекол, разрушенную лепнину и люстры. Болел прокушенный распухший язык. Ныло запястье с рубцом от браслета.
Он шагал по коридору среди стреляных гильз, оброненных рожков, раздавленных хрусталей, стараясь не наступать на след, оставленный мертвым телом, из которого, пока его волочили, изливалась лимфа и кровь. Ему казалось, что теперь весь век он будет идти по этому следу мимо городов, деревень, по площадям, переулкам, вдоль храмов и памятников, к собственному порогу и дому.
Калмыков казался себе нечистым, в липком холодном жире, скопившемся во всех складках и порах усталого тела. Ему захотелось помыться, услышать плеск чистой воды. Он ткнулся в несколько комнат, где скопился слоистый, плавающий под потолком дым. Угадал туалет. Вошел, повернул узорную рукоять.
В раковине из зеленоватого мерцавшего камня была зловонная жижа. В кранах не было воды. Зеркало наполовину осыпалось, и длинные стеклянные лезвия хрустели и лопались под ногами. В ванной из того же полудрагоценного зеленоватого камня были нечистоты, валялось махровое, с кровавым пятном полотенце, женский огромный лифчик с твердыми выпуклыми кругляками. Калмыков поторопился выйти. Снаружи с ревом прошли самолеты, и прапорщик, просыпаясь, ошалело крутанул белками.
Он нашел Татьянушкина у стойки золоченого бара. Татьянушкин выглядел исхудавшим, желтолицым, с костяными впадинами глазниц, с провалами висков. Глаза белые, вываренные. Он щерился, тянул сквозь зубы воздух.
— Сейчас придут, опознают, и ко всем чертям! — быстро произнес он, увидев Калмыкова, будто повторял эту фразу всю ночь, а теперь произнес ее вслух. — Опознают, и ко всем чертям!
Он кивнул на длинный, обмотанный гардиной куль, у которого обрывался размазанный высохший след. Под тканью угадывалось лицо с подбородком и носом, живот с выпуклыми, сложенными кистями рук, ноги со ступнями и коленными чашечками. Гардина была саваном, в котором покоился труп.
— Попить сходить, снег пожевать! — Татьянушкин сосал воздух, словно в нем были водяные пары. Его нейлоновая куртка была прожжена, на животе торчала рубаха, штаны были полурасстегнуты. — Хрена они возятся с опознанием!
По лестнице поднимались, поворачивали в коридор двое в штатском, один в долгополом пальто с поднятым воротником, в котором пряталась голова с черной кольчатой бородой. Другой в клетчатой тужурке, отороченной мехом. Их сопровождали солдаты, лениво, небрежно шаркая тяжелыми крагами.
— Наконец-то, мать их!.. — проворчал Татьянушкин.
Первый, с бородой, не был знаком Калмыкову. Во втором, облаченном в куртку, Калмыков узнал афганца Азиза, того, что на вилле говорил о народном восстании.
Оба неуверенно, торопливо шли под конвоем солдат, ждали, куда их приведут, где поставят. Остановились у бара, переминались перед длинным, лежащим на полу кулем.
— Давай покажи! — приказал Татьянушкин маленькому солдатику, притулившемуся за резной золоченой стойкой. — Сейчас вам покажут тело, — обратился он к пришедшим. — Вы должны опознать его и сказать, Амин или нет!
Солдатик развертывал, сволакивал гардину, обнажая разведенные врозь босые ступни, синеватые ляжки, выпуклый простреленный живот, на котором, прикрывая дыру, скрючились пальцы рук, тяжелую запрокинутую голову с редкими волосами, лицо с тусклыми остановившимися глазами, черный рот, полный жидкого вара.