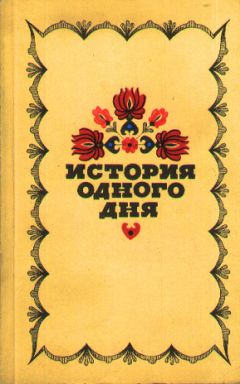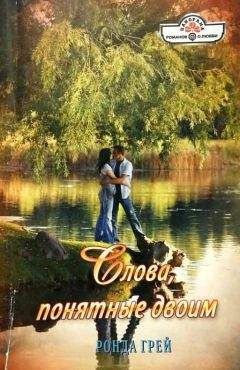— Нет, не будем.
Корчмарю было все равно. Продал он за гроши землю, а на другой день Лаци, печальный и подавленный, отправился с этими последними грошами в путь.
— Куда же мы направимся, барин? — спросил его Мартон Бонц.
— Не барин я тебе больше. А если согласен — буду я тебе товарищем.
— Как так? — уставился на Лаци слуга. — Разве вы — не принц?
— Бедняк я!
— А я-то думал, чудак богатей…
— Был, да весь вышел. Уплыли мои денежки, слуга. Как-нибудь в другой раз расскажу я тебе обо всем.
— Тем лучше, коли так, — весело воскликнул Мартон.
— Пойдешь со мной?
— Хоть на край света.
— Тогда отправимся в Шарошпатак.
— Что же, мне подходит.
— Там мой брат в темнице сидит. Хочу ему помочь.
— Черт побери, если б я знал! Но только уж не куруцы ли его посадили?
— Они, как я слышал.
— Странно, — покрутил головой Мартон. — В чем же он провинился перед куруцами?
— Этого я и сам не ведаю. Там узнаем.
И Ласло Вереш с тяжелым сердцем и пустым карманом отправился в путь. От огромных богатств его не осталось и следа, кроме грошей, вырученных от продажи земли, кольца с гербом на пальце да воспоминаний о днях, проведенных словно в сказочном сне.
И спроси его, он, пожалуй, затруднился бы сказать, чего ему было больше всего жалко: денег, Агнеш или Дравы.
С каким облегчением вздохнул Лаци, когда после длинного и утомительного путешествия они остановились наконец перед воротами Шарошпатакской крепости. Над крышей не развевалось флага: значит, князя в городе не было.
— Ну вот мы и прибыли, дядя Мартон, — сказал Лаци. — Теперь первым долгом нам нужно будет разузнать про моего брата. А там уж присмотрим себе и какое-нибудь занятие.
Хоть с большим трудом, им все же удалось узнать, что Иштван Вереш действительно сидит в заточении в одном из казематов крепости. Один добрый стражник с пикой даже показал им его окошко.
— В чем же его провинность?
Стражники только плечами пожали: кто, мол, его знает? Нам ведь не много про то говорят.
— А не слышали вы, что с ним собираются сделать?
— Повесить! — коротко ответил тюремщик.
У Лаци на глаза навернулись слезы.
— Как видно, очень вам жалко его, барич. Родственником он вам доводится, что ли?
— Брат мой.
— А я так думал, что нет у него никого. Только большой черный пес все ходит сюда да воет. Говорят, его пес.
— Да, да! Была у него черная собака, я бы ее сразу признал, если б увидел.
Стражник поглядел по сторонам, свистнул, и из-за круглой башни во двор, сердито скаля зубы, выскочила лохматая черная дворняга. Лаци признал собаку: она была та самая, какую завещала им когда-то умирающая ведьма.
— Верная животина. Так и сидит здесь неизменно, стережет хозяина. Хотя мы его и сами хорошо стережем.
— Эта собачка, видно, вернее, чем наша белая была, — заметил Мартон Бонц.
— Я просто диву даюсь: и чем она только кормится? Здесь даже и костей-то никаких нет, — продолжал тюремный страж.
Глухим, надломленным голосом Лаци спросил, нельзя ли поговорить с узником.
— Не выйдет ничего. Не стоит вам понапрасну и к коменданту крепости ходить.
— А кто у вас комендант?
— Кручаи.
Лаци содрогнулся, услышав это имя, но упрямо пробормотал:
— У кого же мне узнать, в чем вина моего брата?
— Про то может дать ответ его сиятельство господин Берчени. Его люди привезли вашего брата из Шаторальяуйхея в кандалы закованным.
Берчени находился в это время в Шарошпатаке, но Лаци к нему на прием не допустили. Сказали, что графа мучает подагра и что он не принимает никого, кроме знахарок и предсказателей судьбы. Первые лечат его, а вторых он любит за добрые их пророчества, ибо, распространившись в народе, они поднимают боевой дух так же, как и двойное жалованье для солдата[41].
— Что же нам теперь делать? — ломал в отчаянии руки Лаци.
— Знаю я один способ, — сказал Мартон.
— Какой же?
— Надо проникнуть к графу под видом гадателя или знахарки. Последнее, правда, труднее…
— Верно, выдам-ка я себя за гадателя…
— И глупо сделаешь. Чую я из того, что ты рассказал мне по дороге, что тот Янош Рожомак — не кто иной как сам граф Берчени.
— Ты думаешь?
— Убежден в этом. Успех восстания говорит за то, что кто-то, вероятнее всего именно он, предварительно обошел всю страну и подговорил дворян. А на такое он только переодетым, под чужим именем мог решиться.
— Это верно!
— Поэтому, если позволишь, попробую-ка лучше я проникнуть к графу. Я ему такое предскажу, что у его сиятельства подагра сразу из обеих ног вылетит.
У Мартона Бонда была душа авантюриста. Еще два года назад он был мельником на Таллошской мельнице, что стоит на речке Дудваг. В поисках приключений он отправился затем в Буду, где его совсем опустившимся встретил и взял к себе в услужение Лаци. Бонц обладал незаурядным артистическим талантом и даром подражания, так что без труда выдавал себя за кого угодно.
Два дня Мартон болтался среди челяди Берчени, изрекая всякие библейские пророчества о королевском троне, ожидающем Ракоци, и о сокрушении стен Вены. Слуги сообщили о новом предсказателе графу; Берчени заинтересовался им и пригласил к себе. Здесь Марци с фанатическим выражением лица, обратив к небу взгляд, стал пророчить страшное избиение лабанцев, на таком таинственном, истинно предсказательском языке, что смог и потешить и приободрить графа (в какой-то мере верившего таким вещам).
Не прошло и недели, как Мартон (или «пророк Хабакук», как окрестил его Берчени) стал во дворце своим человеком. Берчени, желая повеселиться, частенько посылал за ним, и у Мартона появилась возможность однажды заговорить и о бедном узнике.
Как-то раз, вечером в воскресенье, граф сам спросил Мартона:
— Ну, что тебе сегодня приснилось, Хабакук?
— Узника одного видел я нынче ночью, ваше сиятельство.
— Что же с ним приключилось, добрый Хабакук?
— Белый голубь явился мне во сне и шепнул на ухо: «Сидит здесь в Шарошпатакском замке один паренек, по прозванию Вереш, в тяжелые кандалы закован. А как освободится, семь полей зальет он вражьей кровью».
— В самом деле, сидит здесь такой заключенный. Но лабанцы могут спать спокойно. Не суждено ему больше ничьей крови пролить, даже крысиной.
— Уж не помер ли он?
— Нет еще, но скоро умрет. Сегодня с утренней эстафетой прибыл за подписью князя его смертный приговор.
— Вот как? — содрогнулся Мартон. — Чем же провинился сей несчастный?
— Воровал, растратил казну, изменил князю. И не говори мне о нем, Хабакук, не порти мне настроения. Полгода пытали — допрашивали мы его. Но он упрямый малый: так и не сознался. Ну да ничего; может, у виселицы опомнится. А ведь доверял я ему, как сыну родному.
С печальным лицом принес Мартон это известие Ласло. Тот же, услышав, места себе не находил от волнения.
— Возможно ли, чтобы брат мой воровал? — вскричал он душераздирающим голосом. — Не поверю я этому никогда в жизни! Я-то думал: в плен его взяли куруцы у лабанцев. А чтобы он — и вдруг вор?! Что же он украл, у кого? Какой ужас! И уже смертный приговор, говоришь, подписан? Боже мой, боже мой! Что же нам теперь делать?
Мартон Бонц только плечами пожал: «Ничем тут не поможешь. Казнят его, а мы и знать о том не будем, Мне вон уже будто слышится: воронье закаркало».
— Может быть, к князю поехать, броситься в ноги, попросить пощады?
— Не успеешь. Князь сейчас в Мункаче, а Берчени еще нынче утром отправляется в Сенице и меня с собою берет. Лучше, право, если и ты, Ласло, вступишь в его войско. Вместе пойдем.
— Нет, я здесь останусь. Узнаю об участи моего несчастного братца. Не ведаю я еще, что мне делать. Но так я этого не оставлю.
— Ну, тогда бог тебе в помощь. А я додурачился с этими предсказаниями до того, что теперь меня и в самом деле определили на должность пророка!
Остался Лаци один. Целую ночь провел он без сна. Все думал: что же теперь станется с его братом? Хоть бы знать, в чем Пишту обвиняют! Тогда легче было бы что-нибудь предпринять. Хоть бы полчасика с ним вместе побыть, поговорить. Может, все же пойти к Кручаи, воззвать к его сердцу? Ведь и он человек!
Утром Лаци явился на квартиру к коменданту. В передней сидел молодой прапорщик.
— Что вам угодно? — спросил офицер.
— Я хотел бы поговорить с господином комендантом, — робко отвечал Лаци.
— По какому делу?
— По делу несчастного осужденного Иштвана
— Нельзя, — отрезал офицер. — Господину Кручаи сейчас недосуг.
Лаци в отчаянии умоляюще сложил руки, прапорщик же, взглянув на них, вскочил вдруг и почтительно поклонился: