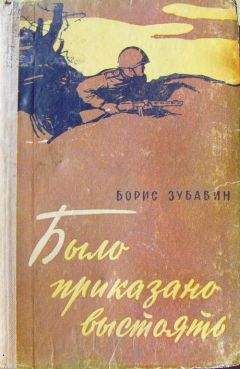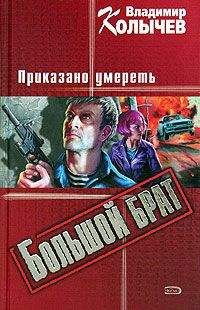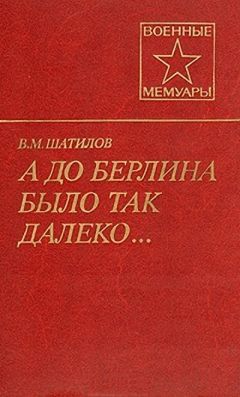— Ничего, мать, отдохнем, когда врага побьем, — бодро сказал Рябов, а сам оглянулся, ища, где бы прилечь. Про себя он решил не упускать подходящего момента и выспаться.
— Ну вот, приходит в избу фашист, — рассказывала старушка кому-то, сидевшему, в темном углу, — а старик мой в ту пору в новых валенках был. Хорошие валенки, черные, с высокими голенищами, теплые-теплые. Мы их валяли из своей шерсти у знакомого шаповала. Хороший такой мужчина был, непьющий. Приходит, значит, фашист, а старик сидит у печки на лавке. У него к погоде спину ломило. Он ее тогда все у печки грел. Сядет на лавку спиной к печке, и так вроде ему легче. Успокаивался…
Высмотрев себе место, Рябов стал пробираться, осторожно шагая через спящих. Уселся, подложил под голову шапку и закрыл глаза. Дверь избы то и дело открывалась, и входили новые люди. Вошел комбат. Ему уступили место на лавке, он облокотился на стол и подпер голову кулаком. А старушка продолжала рассказывать, и ровный голос ее никому не мешал спать.
— Сидит так-то вот мой старик у печки на лавке, а фашист стоит вот этак у двери. Увидел на старике валенки и велит: «Снимай!» А старик мой упрямый был, страсть. Всю жизнь меня этим промучил, царство ему небесное. Погладил бороду и отвечает: «Снимешь валенки — так твои». И уперся ногой в пол. А как он упрется бывало так-то ногой, с него сыновья втроем снять не могли. Такая у него сила, стало быть, в ногах жила. Ну, подсел к нему фашист окаянный, и так и этак около ноги — а не снять. Рассердился, кричать стал. А старик сидит себе и сидит. Вскочил фашист, плюнул — и за дверь. Я еще тогда сказала старику-то, как тот ушел: «Отдай, мол, не с сыновьями связался». А он мне говорит: «Не обую я их в свои валенки. Не про них, шелудивых, они валяны». Только он это, батюшка мой, сказал, а в избу вваливается их человек никак восемь. Загалдели, схватили сейчас моего старика — и во двор… Пинали они его там, за бороду таскали… О господи!.. Так и погиб… Удавили его. Сняли, ироды, с него валенки и ушли…
Рябову показалось, что он спал всего лишь несколько минут. Открыв глаза, он увидел, что в избе по-прежнему светло, и не сразу понял, что это наступило утро другого дня. Горький рассказ старушки он помнил от начала до конца.
Он вышел во двор и зажмурился: его ослепило сверкание сугробов под лучами морозного утра.
Еще холодно. Но часа через три снег на дорогах станет мягким, и ледяные гребешки, оставшиеся от вчерашнего припека, будут потихоньку таять и меняться в форме. Тогда можно будет расстегнуть телогрейку. Шапка, всю зиму удобная и нужная станет тяжелой. Ее придется передвигать то на затылок, то на лоб, то набок — и все равно она будет мешать.
Поднявшись на горку, он остановился потрясенный: во всех печах, стоявших теперь на месте сожженных изб, горел огонь, и около них топтались закутанные платками женщины с ухватами и горшками. Они вернулись из лесу, и им негде было сварить обед.
Они варили обед на улице, каждая в своей печке. Ему показалось в эту минуту, что он не видел ничего страшнее: стоят среди сугробов печи, и в них варят обед. А на одной печи сидит мальчишка. На нем большая шапка колоколом; он притих, нахохлился, прижавшись боком к теплой трубе, из которой вьется в небо сизый дым.
— Вот как им трудно, — проговорил Рябов, растерянно разведя руками. И то, что он часами лежал на снегу, мерз под пулями, а потом вскакивал и бежал, потея и задыхаясь, вперед и вперед без отдыха, почти без сна, лишь вздремнув у походного костра и наглотавшись его едкого дыма, — все это вместе взятое, казавшееся раньше неизмеримо трудным, сейчас представлялось ему совсем пустяковым, и он добавил: — Даже труднее, чем нам.
Эта фраза, произнесенная им вслух, вывела его из оцепенения, в котором он находился. Он сел с автоматчиками на машину, но она долго не трогалась. Он не вытерпел, перегнулся к окну кабины и, покраснев от злости, закричал на шофера:
— Какого черта не едешь, если все давно сели!
И когда машина тронулась, он встал во весь свой могучий рост. Встречный холодный воздух ударил ему в лицо, он сощурился, и на глаза туманом набежала слеза, может быть, от ветра…
ХОЗЯИН
(Памяти Героя Советского Союза Крылова)
В этот жаркий день они не смогли продвинуться ни на метр. Они залегли под огнем фланкирующего пулемета. А перед ними — высота, на которой сидели фашисты. Высоту нужно было взять.
Они поднялись в атаку, чтобы в коротком злом бою покончить с гитлеровцами, засевшими там, на высоте. Гитлеровцы, конечно, не выдержали бы этого удара. Они вообще боятся наших штыковых ударов.
Но этот пулемет все спутал. Очень душно лежать, уткнувшись лицом в траву. А пулемет все бьет, и никому нельзя поднять голову. Страшно обидно прижиматься лицом и руками к земле и ощущать свое полное бессилие. Большой жизнерадостный молодой человек не может подняться, когда ему душно и жарко и неудобно лежать.
…Он любил лежать в траве. Еще до войны, когда в поле стояла жара и видно было, как от нагретого железа трактора течет вверх, волнуясь, горячий воздух, он устало падал в траву, счастливо разметав руки и улыбаясь. К нему подходила мать, Фелицата Ивановна, степенная добрая женщина. Она приносила кринку холодного молока, нагибалась над ним, ласково говорила:
— Умаялся, Федя?
Но это было давно, до войны, и очень далеко отсюда, в родном Оглухинском сельсовете. Тогда было очень хорошо лежать в траве, потому что человек был хозяином всех своих поступков. Он мог лежать или сидеть в траве или шагать, путаясь в ней, высокой, душистой, широко размахивая рукой, чувствуя, понимая всем своим крепким, молодым телом, что все видимое — этот синий горячий летний мир, и трава, и деревья — все, все, все принадлежит ему и существует для него, человека, хозяина, колхозного парня Федора Гавриловича Крылова.
В этом огромное счастье, неколебимая радость. Он тогда запомнил ее такой навсегда — неизмеримую, свободную нашу землю, когда стоял среди полей во весь рост и, оглядываясь кругом, счастливый, вдыхал полной грудью запахи простора, ветра, солнца, трав.
А сейчас было душно и неудобно лежать под пулями, уткнувшись в траву лицом. Ему бы идти сейчас среди этого летнего поля… но он не может подняться. Он даже пошевельнуться не может. За ним следят чужие, ненавистные люди. Если он поднимется, его убьют, отберут у него право делать то, что он хочет. Вот он хочет подняться, а они не дают. Но он на своей земле, среди своих трав, под своим солнцем — он не гость, он хозяин!.. Однажды, еще мальчишкой, он долго простоял в сельской школе перед политической картой мира, пораженный тем, что понял, постиг вдруг своим мальчишеским умом: на карте, среди множества разноцветных маленьких пестрых лоскутьев различных государств, он увидел свою большую страну. Она упиралась красными краями в два синих океана; снизу у нее были горы, пустыни и степи, а посредине — Москва. И его тогда охватило гордое счастье, что он живет в этой стране, что он, как хозяин, может плавать по ее океанам, взбираться на ее снежные горы или жить где угодно, даже в самой Москве, А теперь у него хотят отобрать это право.
Здесь земля уже поругана. Враг истоптал ее, и, может быть, поэтому на ней, негодующей, израненной снарядами, душно теперь лежать Федору Крылову.
Около него лежал старшина Алексеев.
— Слушай, старшина, — сказал Крылов, поворачивая голову так осторожно, что коснулся носом земли, прижался к ней щекой: так низко летели над ними пули, — где он там?
— Правее высоты, — сказал старшина.
А на высоте засели фашисты, и их приказано выбить оттуда. Выбить или уничтожить этих мерзавцев, засевших на той советской высоте, как дома. И пограничники шли в атаку, но этот пулемет все спутал. Им пришлось залечь у подножия высоты. Пулемет прижал их к земле.
— Пулемет надо убрать, — очень отчетливо сказал где-то с другой стороны командир.
Командир ни к кому не обращался. Он только просто выразил вслух свои мысли, но Крылов послушно сказал:
— Есть, убрать! — И пополз вперед. Ему почему-то показалось, что слова командира относятся именно к нему. В этом ничего не было странного, если коммунист подумал, что командир приказывает ему заткнуть глотку фашистскому пулемету, который мешает всему подразделению атаковать высоту и выбить оттуда гитлеровцев.
— Аккуратней, — тревожно сказал вслед ему старшина. — Аккуратней, смотри, Крылов.
Когда он пополз полуденная духота словно навалилась на него. Он не прополз и десяти шагов, а гимнастерка прилипла к спине, и ему пришлось задержаться, чтобы вытереть рукавом со лба пот. По дороге попался овражек. Крылов воспользовался им и, вскочив, побежал сгибаясь. Потом выполз в траву. Пулемет теперь был от него с другой стороны и много ближе.
Пробравшись еще несколько метров ползком, Федор прижался к земле.