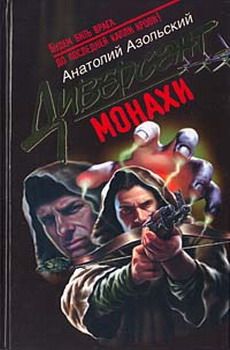Все будет в порядке, повторил он, уже себе, в самолете, когда иллюминатор показал ему краешек Америки, любимой страны, и в шляпу негра-саксофониста, что привиделся ему в подмосковной электричке, полетела смятая десятидолларовая купюра — в оплату того невероятного, что позволила ему узнать ассистентка. 20 февраля этого года Кустов впервые пришел на прием к Одуловичу, жалуясь на непрекращающиеся головные боли, бывал затем у него четырежды, и все потому, что 17 сентября 1943 года не с рожистым воспалением голени привела Мария Гавриловна Кустова сына к лужайке перед госпиталем, а с черепно-мозговой травмой, ею же нанесенной и потому Иваном Кустовым ото всех скрываемой. А ведь еще в Москве могла мелькнуть догадка о травме: день этот, 17 сентября, по данным метеослужбы, выдался чересчур жарким и солнечным для начала осени, +26 градусов, ветер западный, на малюсенькой головке же Ванюши Кустова — просторная дедова буденовка, закрывавшая тугую повязку; с проломленной головкой стоял на лужайке перед госпиталем мальчик Ваня, а в медицинской книжке майора Кустова, во всех анкетах и автобиографиях: «В детстве ничем, кроме простуды, не болел». Тот же вопрос о болезнях задавался очень давно и матери, ответ был тот же — простуда, более ничего: деревня, хата не топлена, ветер изо всех щелей… (В Москве же надо было еще спросить: все сведения о 17 сентября — из военно-медицинского архива, так почему и с чьей воли на мальчика Ваню составили историю болезни в госпитале?) Вмятина в мягком черепе шестилетнего мальчугана заросла давно, знали о ней трое — сам Кустов, Мария Гавриловна и, наверное, госпитальный хирург, по неизвестной причине скрывший точный диагноз, — известной, впрочем, легко догадаться, зная Россию: буденовка была им приподнята, рана бегло осмотрена, мальчик с матерью уведены в процедурную, черепно-мозговая травма на бытовой основе — так определилось опытным фронтовым хирургом; короста на черепе обработана перекисью водорода, и дальнейшие рекомендации по лечению свелись к уточнению того времени, которое Мария Гавриловна могла бы отвести самому хирургу, для чего пришлось, в оправдание «виллиса», на котором преодолевались восемь километров от госпиталя до деревни, выдумать рожистое воспаление кожи, то есть заразу, с которой мальчику подходить к госпиталю нельзя.
Сговор врача с женщиной, готовой собою расплатиться; бытовая травма, не более, о чем могла бы рассказать быстрая на побои Мария Кустова. Что же касается энцефалопатических последствий, то можно что угодно предположить. Как и то, что ни при каких обстоятельствах повзрослевший Ваня Кустов не упомянет о горячей руке матери. Обстоятельства же сложились необычайные: 11 марта при вторичном визите Кустова пальцы Одуловича выщупали неровность в черепе, но, естественно, пациент все начисто отрицал, Кустов, майор Советской Армии Иван Дмитриевич Кустов, прятал себя в себе; крот вырыл нору и не хотел показываться, и вконец запутавшийся Одулович стал разбрасывать ядовитые приманки, выманивая крота, вытаскивая из памяти пациента образы детства, порушенного злодеями родителями, для чего и потребовал у Кустова фотографии, что вызвало в Москве переполох. Одулович же — бесился, потому что за английским языком пациента не выступали очертания предметов, и кроме языкового барьера — еще и колючая стена неприятия вербальных установок. Тогда-то, после третьего визита, и выскочил из глубин подсознания некто, назвавший себя Мартином и впервые объявивший о себе в шифровке. Он не мог не появиться: шпион ты, плотник, водитель троллейбуса ли, а у тебя обязан быть свой Миллнз, твой постоянный незримый и шепотом говорящий собеседник. Их много, этих Миллнзов, потому что с многоликим человеком сожительствуют разноликие отражения его, самозванцы, подтверждающие цельность характера. Четыре месяца постепенно лишавшийся рассудка Кустов жил в содружестве с измышленным им человеком, до хрипоты спорил с ним, соглашался, возражал, доказывал, брал верх над ним или смирялся перед мудростью этого Мартина, которого он обвинял в том, что тот пробрался в его черепную коробку и гадит там, сверлит ее изнутри; Мартин торчал в мозгу занозой, которую надо вырвать; он орал на него, послушбался ему, какими-то остающимися нормальными частями мозга догадываясь, что совершает ошибки, — и вдруг едва не поколотил Одуловича, отказался лечиться, но — вот что странно! — Кустов, никому не дававший знать о себе, скрывавшийся ото всех, — Иван Кустов не далее как позавчера позвонил ассистентке и дал ей свой адрес. И что уж совсем загадочно: Кустов впервые назвал свою фамилию — ту, под которой жил в Америке!
Плохо, очень плохо! Но могло быть и хуже. Таких Мартинов разведчик находит обычно в четком подражании самому себе же; бывает, однако, что мозг начинает удовлетворять себя потворством самозванцу, который всегда податлив, и, наверное, предвестием возможного предательства становятся сознательно необдуманные поступки, ибо тяга к двойной игре, к работе не только на свою, но и на чужую разведку — это в каждом, кому до смерти надоели игры с самим собою…
Все рухнуло! Карточными домиками рассыпались все сочиненные в Москве планы — и те, что проговаривались на шлагбаумной даче под квас, балык и водочку, и возведенные на квартире полковника (или подполковника). По улицам городка в ста милях от Сан-Антонио бегал обезумевший человек родом из Мценского района Орловской области, не поддающийся лечению, подвластный химерам, слепой, оказавшийся в густом лесу и внимающий устрашающим клекотам птиц, ревам хищников, топанию буйволов, продиравшихся сквозь чащу. Но этот страдающий безумец кого-то ждал, на чью-то помощь надеялся, иначе бы не звал к себе того, кто усмирит страсти, кому — через ассистентку — и указан был адрес пансионата на окраине города, трехэтажного строения в стиле начала прошлого века, — на тот случай, если о его местонахождении спасатель не осведомлен. Он зачем-то отрастил старившие его бакенбарды, которые ему не шли и которых не было год назад (для любительского фильма, снятого Жозефиной, растянули простыню в московской квартире), волосы не поредели, все та же буйная шевелюра, рост, естественно, прежний, шесть футов без малого. Надбровные дуги — выломлены страдальческим, как у трагического мима, углом и казались мазками гримировального карандаша. Полный сомнений и раздумий, он подолгу стоял на перекрестках улиц, не решаясь переходить их; не поддавался он и порыву толпы, пропуская мимо себя спешащих, а затем внезапно, броском обгонял всех. У витрин магазинов он застывал и, с неопытностью новичка в слежке, изучал отраженных стеклом соглядатаев — то ли дурачился, то ли в самом деле имел основание подозревать прохожих в злых умыслах. Людей он частенько побаивался, он огибал их, пробираясь к дальним столикам в кафе, занимая те, где он мог быть без соседей. Его мучила жажда, но, уже на подступе к утолению ее, он наслаждался терзавшей нутро болью, предвкушением снятия ее. Когда приносили вино или виски, он опускал голову и внимательно всматривался в жидкость; тонкие пальцы задумчиво поглаживали ножку бокала; двойное виски он выпивал залпом, алкоголем он заливал пожар, потому что в нем бушевало пламя. Джунгли пылали, в огне и дыму бесились звери, птицы кружили над плотной стеной желто-красного огня. От него пахло помойкой; кожа впитала в себя что-то отвратительно мерзкое, он истязал себя грязью; появись в таком виде И. Д. Кустов на московской улице, его привели бы в милицию, но в непуританской глубинке самого южного штата Америки он сходил за обычного искателя женщин и выпивки. В азарте поиска или в страхе погони он так и не почуял, что за ним идет человек, замечавший скошенные задники когда-то модных туфель, немытые и нечесаные волосы некогда чистоплотного майора Советской Армии и удачливого коммерсанта, который сейчас, 7 августа 1974 года, кого-то, это уже становилось очевидным, разыскивает…
Он искал себя самого! Коновал Одулович сделал попытку бочком протиснуться в мозги пациента, но встретил бешеное сопротивление человека, обязанного молчать и ни при каких обстоятельствах не признаваться, кто он; прошлое пациента не желало обнаруживаться: ни на каких сеансах больной не говорил о себе откровенно, на что рассчитывает каждый психиатр, задержанные в сознании боли извлекавший наружу, чтоб те становились вровень с обычными бытовыми неурядицами и воспринимались уже не терзающими воспоминаниями, а разбитой в суматохе тарелкой или штрафом за неправильную парковку. Броневой заслон падал перед Одуловичем, не подпуская его к тому дню и часу, когда кто-то тупым предметом едва не раскроил недозревший детский череп. Вот тогда разгоряченный Одулович в мозги Кустова не стал вползать бесшумно, не проник внутрь, осторожно открыв дверь отмычкой, а вломился нагло — не с кнутом даже, а с фугасом, чтоб уничтожить засидевшегося в черепной коробке Мартина. Произошло чудовищное, то, перед чем была бы бессильна Анна Бузгалина. Мартин покинул его, сбежал, выпрыгнул из черепной коробки, как с автобуса, вывалился, как из автомашины, на полном ходу. Исчезло собственное отражение, человек только что смотрел в зеркало, видел необходимое дополнение себя — и вдруг в зеркале пустота! Последние дни Кустов жил будто без кожи, без костей; еще оставались какие-то заменители, он пытался завести дружбу с кем-либо, но мужчины отпугивали не самого Кустова, а где-то обитающего рядом Мартина; Кустов проникался убеждением, что его постоянный собеседник, именно в этом городе от него сбежавший, тоже ждет его, ищет, остался ему верен и тоже хочет соединиться с ним, сесть рядом в кафе, подойти на улице, позвонить, и уж, во всяком случае, он рядом, кружит где-то поблизости, оберегает его и готов с повинной головой явиться к нему, что радовало Кустова, хоть он не очень-то стремился увидеть Мартина, потому что имел на него зуб… Оттого и обманывал: выжидательно простаивал несколько минут, будто бы ждал у входа в маркет, в бар, а затем уходил вдруг, презрительно сплюнув. Или, перебросившись словечками по пустякам со случайным встречным, понимающе кивал, как бы давая наблюдавшему за ним Мартину знак: да, я понял, я жду тебя в месте, которое ты мне сейчас указал. На этом месте он и останавливался, чтобы вдруг уйти, расхохотавшись, как бы говоря: да нужен ты мне, ну, чего прилип?! Не было уже сомнений: та сцена в парке у ограды, когда Кустов картинно демонстрировал себя толпе, еще и мел выпрашивая, чтоб начертить им абрис наглой пухлой женской задницы, — этот спектакль затеян был для Мартина, был каким-то эпизодом их распрей, их размолвкой, Мартин изменял ему, в нужный момент его не оказывалось рядом; Кустова и сейчас тянуло припасть к ушам какого-нибудь верного и понимающего прохожего, поведать ему о горюшке своем… (Бузгалину вспомнилась некогда прочитанная фраза: «Охо-хо-хохонюшки, тяжко жить Афонюшке на чужой сторонушке без любимой матушки!..»)