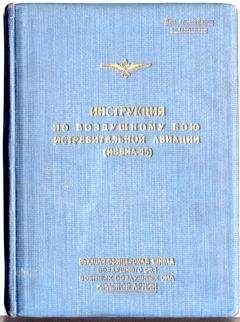— Почему остановился двигатель? Ну, машину трясло, ладно. С этим, надеюсь, разберусь. Но двигатель-то почему встал? От тряски — не похоже. Прекратилась подача топлива? Возможно. А причина…
Хабаров высоко ценил опыт Начальника Испытательного Центра, человека любопытной и далеко не стандартной судьбы, и поэтому рассуждал вслух, стараясь уловить его отношение к своим беспокойным мыслям. Генерал был ученым, выдающимся аэродинамиком. В свое время, лет тридцать назад, будучи еще начинающим инженером, он контрабандно выучился летать. Ему долго не давали пилотское свидетельство, считая, что партизанское вторжение в чужую епархию — вредная блажь талантливого ученого. Но он все равно летал, получил с десяток взысканий, однако своего добился — стал летчиком-испытателем третьего класса. Однажды практически приобщившись к небу, он стал весьма и весьма авторитетной фигурой в делах, касавшихся испытаний. И летчики, служившие под его началом, охотно делились со своим начальником сомнениями, откровенно размышляли при нем…
— Виктор Михайлович, мне лично не дает покоя кислородный прибор. Если Збарский… как бы это сформулировать поаккуратнее… ну, скажем так: позволил себе отклониться от истины в столь деликатном вопросе, то почему я должен верить в остановку двигателя, например? Почему я должен согласиться с тем, что летчик принял все возможные и необходимые меры для вывода машины из странного и неестественного положения? Почему…
— Прошу прощения, — сказал Хабаров, — вы избрали опасный путь. Если строго следовать вашей схеме, можно взять под сомнение вообще все. Но тогда неизбежно придется отвечать и на такой вопрос: а почему прыгал Збарский? Просто так? Согласитесь, просто так никто не прыгает.
Они говорили еще долго. И Хабаров ушел от генерала с тяжелым чувством. Хабаров слишком давно знал Збарского, чтобы сомневаться в его профессиональных качествах. Да и чисто по-человечески ему не хотелось вставать на точку зрения генерала. Конечно, ты мне друг, но истина дороже… И все-таки это был тот редкий случай, когда Виктор Михайлович с удовольствием уступил бы честь определения истины кому-нибудь другому.
Первым делом Хабаров решил поговорить со Збарским, потом тщательно просмотреть материалы по аэродинамике машины, и вообще все, что есть по машине. Предстояло подробно изучить задание, которое выполнял Збарский.
Збарский встретил Хабарова сдержанно.
— Давай, Витя, допрашивай. Положение у меня такое: могу только отвечать.
— Если тебе неохота повторять пройденное, не будем. Но ты же понимаешь, Саша, мне ты этим задачу не облегчишь. А решать все равно надо. Придется.
— Да, все я понимаю. Ты спрашивай, спрашивай.
— Скорость ты начал гасить в наборе?
— Да.
— Обороты сразу убрал до упора?
— Сразу и до упора.
— И вышел на семь тысяч с минимальной скоростью?
— Нет. Скорость была что-то около двухсот шестидесяти. Великовата. Я выпустил тормозные щитки.
— И тогда затрясло?
— Нет, сначала не трясло. Но у меня было такое ощущение, будто руль высоты ведет себя как-то странно.
— И ты?
— Пытался поглядеть, в каком положении руль. Вертелся, вертелся, но ничего не увидел.
— А скорость?
— Скорость уменьшалась. Затрясло на двухстах тридцати примерно. И тут же упала нагрузка на рули.
— Ты убрал щитки?.
— Не сразу. Все старался увидеть руль глубины, вообще хвостовое оперение.
— Как же ты мог разглядеть?
— Ну как? Расстегнул ремни, приподнялся, вывернулся наизнанку… Я же маленький.
И Хабаров совершенно неожиданно для себя увидел вдруг Збарского в кабине. Легонький, сухой, подвижный, как жокей, не молодой уже человек. Хабаров ясно представил себе, как он изворачивался в кабине, как покраснело его желтоватое обычно лицо, как напряглись усталые глаза. Подумал: не так давно Збарский похоронил взрослую дочку. Она была планеристкой и разбилась на соревнованиях. Мысли эти не ШЛИ к делу. А может быть, и шли. Хабаров еще подумал: как он вообще тянет эту лямку, эту каторжную лямку на скоростных машинах. Двадцать седьмой год испытывал самолеты Збарский, постарел в полетах…
— И тут двигатель сдох. Ты слушаешь, Витя?
— Слушаю, конечно, слушаю, — сказал Хабаров.
— Ну, а потом, собственно, ничего уже не было: я ее уговаривал сколько мог, не уговорил и выпрыгнул. Теперь все гудят: с какой высоты, с какой высоты? Но разве в этом дело? Почему двигатель встал, вот вопрос. Если ты сумеешь это объяснить, все остальное я подпишу не глядя.
Хабаров съездил в конструкторское бюро, где рождалась машина, и долго разговаривал с руководителем группы аэродинамики. Молодой, румяный, рановато располневший инженер в пижонской строченой рубашке обвалил на Хабарова лавину расчетов, таблиц, выкладок, потом опутал летчика бесконечными лентами самописцев, а в заключение предъявил целый том графиков, полученных в результате продувок машины в аэродинамической трубе. На бумаге все выглядело вполне благополучно.
— Как видите, объективные данные свидетельствуют, — заключил инженер, — что на всех, в том числе и экстремальных режимах, машина должна вести себя более чем удовлетворительно.
Инженер Хабарову не понравился. Он был из породы тех, кто получает похвальные грамоты еще в детском саду и среднюю школу заканчивает непременно с медалью, если не золотой, то серебряной.
— Ну, а от чего же, по-вашему, машину трясло?
— Не знаю. Чего не знаю, того не знаю.
— Хорошо. Ставлю вопрос иначе: от чего машину могло трясти?
— Вы меня не поняли, Виктор Михайлович. Я не знаю, трясло ли машину.
— То есть как это вы не знаете? Вот заключение Збарского, тут ясно написано…
— Написать можно все… Бумага терпеливая.
Хабаров встал. Ему очень хотелось обложить самоуверенного инженера самыми что ни на есть последними словами, но он сдержался. У аэродинамика факты были, у летчика фактов не было.
— Как вы считаете, момент сил, изменяющийся при внезапной остановке двигателя, может сказаться, на поведении самолета?
— Это надо посчитать. Так, на глазок, трудно сказать.
— Пожалуйста, прикиньте, а я позвоню вам завтра с утра.
— Позвоните. Я посчитаю.
Полдня Хабаров просидел в ангаре, где заводская бригада готовила дублер к полету.
Машина Хабарову нравилась. Это была красивая машина, законченная в своих очертаниях, очень лаконичная, чертовски целесообразно скомпонованная. Фюзеляж смотрелся чуть сплющенным с боков веретеном. Крылья — стреловидные, оттянутые далеко назад. Хвостовое оперение показалось Хабарову несколько гипертрофированным, и в первую очередь — киль, но это была дань путевой устойчивости. Особенно внимательно Хабаров разглядывал необычно мощные тормозные щитки, в выпущенном положении они напоминали жабры могучей хищной рыбины. Какой-нибудь королевской акулы.
Двое суток Хабаров вроде бы ничего не делал и тем не менее ужасно устал. Он знал это состояние — оно возникало всякий раз, когда Виктор Михайлович слишком много, слишком пристально думал. Надо было выключиться, перевести себя в другой режим. Хорошо бы дрова поколоть. Основательно — до седьмого пота, до потемнения в глазах. Но он жил в доме с центральным отоплением, электричеством, газом, и дрова ему не требовались. И вообще дом его не требовал никаких физических усилий. Хорошо бы помучить тело на лыжах. Отмахать так километров сорок, доползти до кровати, вывалив язык на плечо, и рухнуть. Но не было снега. Некоторые разряжались вином. Виктор Михайлович никогда не пил перед полетами и осуждал пивших. Пить для радости — это Хабаров понимал, всякое прочее питье он считал безнравственным.
Хабаров поехал в лес. Поехал на электричке.
Всю жизнь Виктор Михайлович прожил в городе, привык к его шумным площадям, бестолковым улицам, к неразберихе и многолюдью центральных кварталов, и всегда летчика тянуло в лес, к тихим, дремлющим берегам безымянных речушек, к прохладному свечению заброшенных озер. Он любил сыроватый запах леса, и бормотание листвы, и тревожный скрип старых сосен под ветром.
Хабаров вышел из электрички на маленькой станции и прошел по шоссе километра три, потом свернул на проселок, прошел еще сколько-то и опять свернул. На этот раз на заброшенную, глухую тропинку, неожиданно он натолкнулся на старый пенек, сплошь усыпанный рыжеватыми тонконогими опятами. Грибов была прорва. Хабаров снял кожанку, расстелил на земле. Присев около пенька на корточки, он обламывал грибы и пригоршнями бросал на куртку. Обработав один пенек, увидел, что и на соседнем опят не меньше. И, радуясь удаче, словно мальчишка, он рвал, рвал и рвал… Ему чертовски повезло — это ж надо было напасть на такое место!
Все заботы покинули Хабарова. Какие там машины, дела, проблемы — перед ним была неповерженная армия опят, и ее надо было сокрушить, разбить наголову. Хабаров сражался, наверное, целый час и в конце концов обнаружил: грибов набралась гора, а у него ни ведра, ни лукошка, никакой тары. Бросить? Жалко. Виктор Михайлович стащил через голову свитер, поеживаясь от лесной, сыроватой прохлады, снял рубашку и, завязав рукава узлами, стянув ворот в пучок, принялся набивать грибами.