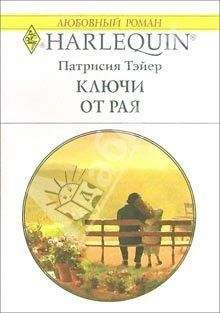Тогда много внимания уделялось школьному самоуправлению. Работали самые различные секторы, заведующих и членов которых мы выбирали на общих собраниях. Это поднимало и чувство ответственности каждого перед коллективом и воспитывало гражданственность. Меня, кроме того, что я был бессменным старостой класса, выдвинули пионервожатым в пятый класс. Помню такой случай. Идет урок. И тут появляется завуч и вызывает меня в коридор.
- Иди, - говорит, - приведи свой пятый в порядок.
Иду. Захожу в класс. Сидят, не шелохнутся. Кого же тут к порядку приводить? Замечаю, что нет учителя.
- Что случилось? - спрашиваю. [251]
Поднимается председатель совета отряда.
- Шлемка на уроке по партам бегал. Вот учитель и вышел из класса.
- Что делать будем? - спрашиваю. Молчат.
- Ну что ж, обсудим…
И начинаем обсуждение. Вначале приходим к выводу, что это нехорошо. Понятное дело, виноват наш общий товарищ - Шлемка. Но ведь все видели, как он по партам бегал. И никто не одернул. Значит, извиняться перед учителем будем все.
- А Шлемку?
- За срыв урока наказать! - предлагают.
Сообща определяем наказание. И выбираем самое строгое: лишить права играть в футбол на пять игр!
Самое суровое наказание - отлучение от коллектива. Страшнее тогда для нас не было ничего. Всех нас, детей рабочих и крестьян, сама жизнь убеждала в том, что именно в коллективе для нас все: наука, работа, отдых - жизнь.
В десять лет я лишился отца. Без него, конечно, был не мед. После похорон тетя Юля - сестра отца - забрала нас всех в Глухов. Мама пошла работать учеником печатника в типографию. Получала она 35 рублей. Да еще небольшая пенсия за отца. Чтобы понять, много это или мало, приведу такой пример. Хлеб выдавался по карточкам. Продавался и так называемый коммерческий. Очередь за ним нужно было занимать с вечера. Но это еще не беда. Вся загвоздка в том, что стоил он 1 рубль за килограмм. Такой хлеб нам, конечно, был не по карману.
Мать еле- еле сводила концы с концами. Часто я наблюдал такую картину. Сидит мама и раскладывает деньги на кучки: за квартиру, за воду, на керосин, на ремонт обуви. За счет экономии на протяжении двух, трех месяцев -на покупку одежонки кому-нибудь из нас. А вот это - на непредвиденные расходы. Остаток - на питание. Он делится ровно на тридцать или тридцать один, в зависимости от количества дней в месяце.
И вот эта сверхэкономия, даже полунужда, учили нас еще больше уважать коллектив, ценить Советскую власть, дорожить ею. Разве выдержали бы мы тогда в одиночку? Конечно, нет. Я, а затем и Валя, получали в школе бесплатные обеды. О нас постоянно заботился [252] профсоюз полиграфистов. Типография арендовала поле на котором выращивался картофель. Осенью урожай делили и развозили рабочим по домам. Летом семьи печатников проводили выходные в однодневном доме отдыха. Мама часто ездила в дома отдыха, я и Валя - в пионерские лагеря, Галя росла в детских яслях.
Разве не будешь после этого коллективистом?! Потому-то с таким энтузиазмом мы, школьники, брались за любое дело, которое доверяли нам старшие. Очищали сады от гусеницы, подвязывали хмель, дергали коноплю - все делали с большим удовольствием, соревнуясь между собой в ловкости, стремясь сделать побольше и получше.
А вообще- то мы были обыкновенные мальчишки, как и все, как в любые времена -озорные, непоседливые. Большая страсть была у нас, мальчишек, - походы. Летом ребята с утра уходили в лес. Я к этому времени выбраться из дому не успевал: надо было управиться по хозяйству. Но что мне стоило пробежать пять километров, чтобы догнать друзей?! Зимой мы ходили на лыжах. После этих лесных пробегов я в девятом классе принял участие в соревнованиях и победил. А потом занял первое место и в районе.
В этих походах как-то незаметно рождалась и приходила ко мне моя вторая любовь. Однажды в одном из походов заметил: песок какой-то необычный.
- Хлопцы, глядите, какой песок!
- Песок как песок, - недоуменно пожали плечами мои приятели. - Разве что пожелтее.
- То-то и оно! А может, золото?
- Хе, золото. Его давно бы выскребли, еще до революции.
Мы пошли дальше, но мысль о необычном песке не давала мне покоя. Я побывал на этом месте несколько раз, потому что заметил в песке более крупные золотистые пластинки. Их-то я и добыл. Собрал, завернул в бумажку. Долго носил с собой, не решаясь кому-либо показать. А потом отважился и подошел к учителю.
- Скажите, пожалуйста, что это? - обратился к нему, разворачивая бумажку. - Не золото?
- А ну-ка, ну-ка, - взял в свои руки мои личные сокровища учитель. - Точно - золото!
- Да ну! - ахнул я.
- Да, это золото. Но - кошачье. [253]
- Как кошачье? - еще больше удивился я.
- Так его назвали геологи. А на самом деле это кусочки слюды в песчанике, - подвел итог моим многодневным сомнениям учитель. А потом предложил: - Слушай, Рогачевский, если ты к геологии имеешь такой интерес, сделай-ка доклад на тему: «Происхождение нефти на земле». И тебе польза будет и школе. Договорились?
- Смогу ли?
- Постарайся.
Я с радостью и, конечно же, с большим волнением взялся за подготовку доклада, даже не подозревая, как много будет значить в моей жизни геология, что она и станет моей второй любовью. Верность, которой я пронесу сквозь тысячи штормовых военных и невоенных морских милей, а на старости лет все мои дни и даже ночи будут заполнены ею, геологией…
А в школе все шло, как говорится, по расписанию. Занятия. Общественная работа. И дружба.
И вот что интересно. Уже не годы, а десятилетия прошли от тех школьных лет, а вот дружба первая, юношеская живет и сегодня. С одноклассниками (кто остался в живых - ведь прошли войну!) я до сих пор поддерживаю связь. Встречаемся при первой же возможности, как родные. Те из нас, которые работали учителями, сейчас уже на пенсии. А мы, надо же, как встретимся - своих учителей вспоминаем.
Я чаще всего двух. Анастасию Владимировну и Пелагею Ивановну. Анастасия Владимировна, я тогда считал, прямо-таки замучила нас Пушкиным, поэзию которого она боготворила. Честно скажу, что ее отношение к поэту мы не разделяли. И в первую очередь потому, что, как нам казалось, он был далек от нашей эпохи, от наших пролетарских задач. Но учитель вправе требовать, чтобы его предмет изучали. Вот Анастасия Владимировна и требовала, чтобы мы знали наизусть двадцать стихотворений Пушкина. Среди них - «Деревню». А стихи-то по размеру - длинные. Я и схитрил. Думаю, выучу половину, если вызовет, не будет же до конца такое длиннющее стихотворение слушать. Так и сделал. И точно - вызвала. Начал я бойко. Анастасия Владимировна даже глаза закрыла - слушает, блаженствует. «Неужели не остановит», - мелькнула тревожная мысль. Остановился сам - на том месте, до которого [254] выучил. Стою, молчу. Анастасия Владимировна, не открывая глаз, полушепотом мне:
- Читайте, читайте, Георгий, очень хорошо!… Молчу.
- В чем дело, Рогачевский? - открыла глаза Анастасия Владимировна.
- Дальше не знаю.
- Как?!
- Не учил.
- Не учил?! Двойка вам, Рогачевский! А я возьми да и скажи в ответ:
- Носитесь со своим Пушкиным, как с писаной торбой!
Анастасия Владимировна никак не ожидала такого. Расплакалась и вышла из класса.
После уроков - собрание. Кончилось все тем, что мне пришлось извиниться перед Анастасией Владимировной. А, значит, и перед Пушкиным.
Я думал, учительница затаит на меня обиду. Но, нет. Более того, по ее отношению ко мне я понял, что она даже довольна. Да и учить литературу я стал прилежнее.
Много лет спустя после войны в Глуховском педагогическом институте был вечер встречи. Выступала здесь и Анастасия Владимировна - совсем уже глубокая старушка - и представила меня так: «Мой лучший ученик». Эти слова для меня были приятнее командирской похвалы.
А вторая учительница, Пелагея Ивановна, преподавала математику. Мой любимый предмет, но, как я считал тогда, не давала мне учительница жизни. Станет у парты и весь урок смотрит, что и как я делаю.
- Ну, Рогачевский опять вылез через окно, хотя и знал, где дверь надо открывать.
Это означало, что я решил задачу окольными путями. Своеобразный турнир с Пелагеей Ивановной так меня натренировал, что на конкурсах я успевал решать задачи двумя и тремя способами. И это все заслуга моего терпеливого и настойчивого преподавателя. Всю жизнь благодарил я ей за науку.
А выпускной вечер все ближе и ближе. - Куда же ты подашься-то? - первой поинтересовалась мать. - Может, здесь останешься? [255]
- В Москву поеду.
- За песнями, что ли?
- Не за песнями, а за профессией.
- А может, здесь, а? В Глухове? Пединститут есть.
- Из меня учитель, как из камня подушка, - буркнул я.
- Так оно и будет: камень вместо подушки, - ответила мать, догадываясь, куда и зачем я собираюсь податься в столицу. - Будешь мыкаться по белу свету. Места не согреешь. Всю жизнь загубишь…