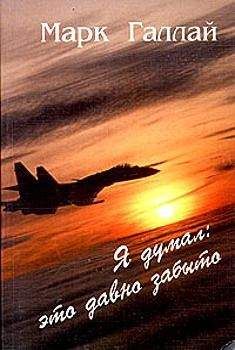Но радоваться ещё рано. Пока налицо только, так сказать, принципиальная возможность, попасть на аэродром. Её, эту возможность, надо ещё реализовать.
Теперь главное — расчёт, то есть такой манёвр, который приведёт меня к земле у самой границы лётного поля. Если запас высоты «кончится» раньше, чем я дотяну до аэродрома, исправить ошибку подтягиванием я не смогу — мотор-то не работает! Приземление состоится вне лётного поля, и машина будет, обидно, перед самым аэродромом разбита. Тем более не смогу я и уйти на второй круг, чтобы рассчитать посадку более удачно с повторного захода, если подойду к аэродрому с «промазом» — чрезмерным избытком высоты. Как ни крути — и в том и в другом случае нужен мотор… Нет, надо рассчитывать точно, без поправок!
Кажется, это получается… Да, теперь уже ясно: расчёт приличный. Есть небольшой избыток высоты — убираю его змейками и подскальзыванием на крыло. Так, хорошо!
Над самой землёй, нажав рычаг быстродействующей аварийной системы, выпускаю шасси. Оно чётко выходит — я ощущаю два лёгких толчка, а на приборной доске загораются зеленые лампочки.
Ещё несколько секунд — и «Лавочкин» катится по заснеженной земле, обгоняя пожарную машину, которая полным ходом мчится по краю полосы к тому месту, где я должен остановиться.
Время снова пошло своим обычным, нормальным, не форс-мажорным ходом. «Цирк» окончен…
Первый же беглый осмотр самолёта подтвердил то, что мне стало ясно ещё в воздухе, — мотор развалился. Один из его цилиндров вырвало начисто (по-видимому, из образовавшейся дыры и хлестало пламя). У другого сорвало головку. Большая часть шатунов порвана и перекорёжена. Хотелось бы сказать, что мотор, мол, годится теперь разве что на металлолом. Но нет! Представители моторной фирмы, хотя и немало огорчённые всем происшедшим, смотрят на него с величайшей заинтересованностью. В нем разгадка причин аварии, а значит, и возможность полной ликвидации этих причин в будущем.
* * *
Разоблачаясь в гардеробной, я поначалу ничего, кроме тяжкой усталости, не ощущал: сказывалось то, что, как говорят спортсмены, выложился до дна. Хотелось не дискутировать с Чернавским, а поскорее идти в душевую и после этого — на отдых, домой.
Но ближе к вечеру я вернулся к мысленному разбору происшедшего. Действительно, мне последовательно везло в этот день.
Произойди разрушение мотора на полминуты позже (то есть на несколько километров дальше от аэродрома), будь хоть немного больше угол, на который мне пришлось развернуться, чтобы лечь курсом домой, лопни от дикой тряски бензиновая проводка вблизи живого факела пламени, бьющего из мотора… Словом, можно было перечислить немало весьма вероятных «если», при каждом из которых выбраться из создавшегося положения не удалось бы никакими силами ни мне, ни, наверное, любому другому лётчику на моем месте.
Получалось, что действительно повезло! И я задумался… Едва ли не впервые серьёзно задумался над тем, что же в конце концов такое — везение? А равно и его значительно менее приятный антипод — невезение?
Попытки обратиться к таким испытанным источникам мудрости, как, например, «Философский словарь», верой и правдой послуживший мне в студенческие годы для сверхскоростной подготовки к экзаменам, успеха не имели. О везении и невезении там ничего сказано не было.
Более тщательно исследованными оказались категории случайности и необходимости. Если верить Александру Дюма, ещё отважный мушкетёр д'Артаньян интересовался этим вопросом и пришёл к выводу, что на голове у случая растёт одна-единственная прядь волос, за которую его можно схватить. (Д'Артаньян, судя по всему, имел в виду случай неизменно благоприятный; он явно не служил в авиации.)
Конечно, эти проблемы можно было изучить не только по высказываниям мушкетёров короля Людовика XIII. И я попытался в меру своих возможностей сделать это. Но все же проблема случайности и необходимости не совсем совпадала с той, которая меня интересовала: везение и невезение. Родственно, но не то.
Пришлось обратиться к самому надёжному критерию истины — практике, благо авиационная практика оказалась на сей счёт весьма щедрой: примеров везения и невезения вокруг меня было сколько угодно.
* * *
Прежде всего вспомнилось, как однажды Гринчик отправился в полет на самолёте И-16. Дело было года за два до начала войны, когда мы как испытатели едва начинали оперяться. Завоевать своё место под солнцем нам ещё только предстояло, причём для большинства из нас, в том числе и для Лёши Гринчика, эта задача была осложнена некоторыми дополнительными обстоятельствами, начиная со столь неблагоприятного, как наличие у молодого лётчика-испытателя высшего технического образования. На фигуру инженера за штурвалом опытного или экспериментального самолёта кое-кто из старожилов смотрел в те времена ещё косо. Словом, едва ли не в каждом полёте надо было, что называется, показывать товар лицом, а как понимать этот показ, мы по молодости лет порой толковали несколько превратно. Так, например, возвращение домой с не до конца выполненным заданием представлялось нам чем-то не вполне приличным, независимо от того, чем это недовыполнение было вызвано: неполадками в работе мотора, ухудшением погоды или какими-нибудь другими причинами.
И вот в один прекрасный летний день Гринчик ушёл в воздух на маленьком, тупоносом, похожем на злого бульдога истребителе И-16. Ему надо было добраться до потолка, а затем, как бы спускаясь по невидимой многокилометровой лестнице, выполнить несколько горизонтальных скоростных площадок на разных высотах — на восьми километрах, на семи, шести и так далее. Это задание сокращённо именовалось: «потолок и скорости по высотам».
Лёша благополучно добрался до потолка, сделал одну площадку, другую и, лишь подходя к третьей, обнаружил, что кучевые облака под ним сгущаются — просветы, сквозь которые он видел землю и определял своё местонахождение, делаются все меньше. А надо сказать, что другие способы ориентировки, например столь распространённые сейчас различные радиотехнические, локационные, инерциальные и прочие навигационные системы, в то время, по крайней мере при выполнении испытательных полётов, да ещё на одноместных самолётах, практически не применялись. Поэтому единственным способом определить, над чем летишь, было так называемое сличение карты с местностью, для чего прежде всего надо было эту самую местность видеть.
Знакомясь с уставами наземных родов войск, лётчики не без зависти читали о широко распространённом у наземников методе ориентировки «путём опроса местных жителей». С летящего самолёта узнать что-либо таким способом было — увы! — почти невозможно.
Говорю «почти», потому что некий паллиатив этого соблазнительного метода нами, когда совсем уж припирало, все же применялся. Я сам однажды, немного подзаблудившись и выскочив на какую-то затерявшуюся в лесах незнакомую железную дорогу, использовал нечто подобное опросу местных жителей: снизился и на бреющем полёте стал читать названия станций. Первая же надпись — «Александров» — сразу поставила все на место. Мне повезло в том, что это первое попавшееся название оказалось достаточно знакомым. Иначе разобрать его при столь кратковременной экспозиции — станция вместе со всем, что на ней находилось, проскакивала под самолётом весьма стремительно — было бы нелегко.
И немудрёно, что один наш лётчик, вынужденный применить такой не совсем авиационный метод восстановления ориентировки, впал поначалу в ошибку. Надпись на вывеске, обнаруженной им на какой-то захудалой платформе, оказалась вроде и не длинной, но ни одного из знакомых названий железнодорожных станций не напоминала.
Лишь с третьего захода таинственная надпись была прочитана; на вывеске значилось: «Буфет»… Пришлось лететь к соседней платформе…
Зато легко было лётчикам, пролетавшим в довоенные годы над некоторыми маленькими аэроклубными аэродромами, названия которых были написаны огромными меловыми буквами прямо на зелени лётного поля. Увидев впервые эти надписи, я вспомнил сказку Чуковского, в которой главное действующее лицо — крокодил — прилетает в Африку и с облегчением убеждается, что по дороге не заблудился, ибо:
…на земле там написано — Африка!
Но шутки шутками, а точно ориентироваться, не видя земли, в довоенные годы на одноместном самолёте было непросто. А в полёте, о котором идёт речь, Гринчик видел все меньшие и меньшие клочки земли, зажатые между быстро распухающей облачностью, да к тому же, как назло, все клочки какие-то очень неинтересные — безымённые, невыразительные поля, опушки и перелески, лишённые сколько-нибудь характерных, легко опознаваемых ориентиров.
Но он упорно продолжал гонять площадки (не возвращаться же домой с недовыполненным заданием!), соблюдая со всем возможным тщанием курс и время: пять минут, в одном направлении; следующие пять — строго в обратном… Однако точность выдерживания элементов полёта — и курса, и времени — абсолютной, конечно, не бывает, да и ветер упорно сносит машину на десятки километров в час куда-то в неизвестном лётчику направлении.