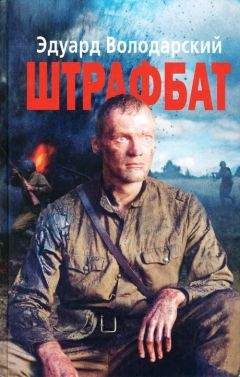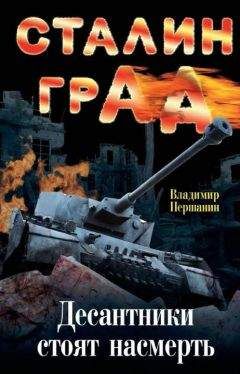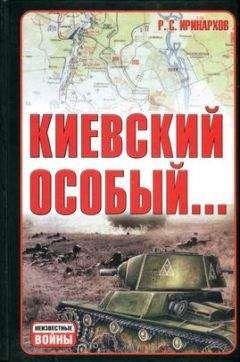— Только не куксись. Ты женщина к военной жизни привыкшая… — Он многозначительно поднял палец вверх. — Ты жена командира полка. Улавливаешь?
— Да уж… — через силу улыбнулась Вера. — Давно уж уловила…
— Сашку береги… ну, и сама…
— Да, да… — Она обняла его, привстала на цыпочки и стала жадно целовать, и тело ее все затрепетало, напряглось, и сдавленный стон вырвался из груди.
— Ну, ну, Вера, я сказал — не куксись… Все будет хорошо. Ты только жди… Это дело долго не протянется, мы их за пару месяцев порешим. Слово даю, Веруня…
Он поднял чемоданчик, она взяла его под руку, так они и вышли из двухэтажного длинного строения, которое называлось офицерской казармой полка.
У входа стоял «газик» с открытым верхом, мотор уже работал. В «газике» сидели водитель — старший сержант с соломенным чубом, выбивавшимся из-под пилотки, и на заднем сиденье — комиссар полка Виктор Сергеевич Дубинин.
Твердохаебов еще раз поцеловал жену и забрался в «газик». Машина рванула и быстро покатила по узкой асфальтированной дорожке военного городка. Казармы были пусты — полк уже выступил в поход. Вера стояла и махала рукой. Из дома вышла еще одна женщина, еще одна, и скоро их стояло уже человек семь или восемь, и все махали руками, удалялись и уменьшались… уменьшались… секунда и — пропали из вида. Твердохлебов перестал смотреть назад. В голове вертелись слова песни:
Слушай, товарищ, война началася.
Бросай свое дело, в поход собирайся…
А ему и не надо бросать свое дело, война и есть его прямое дело. Твердохлебов вздохнул с облегчением, улыбнулся, взглянув на комиссара:
— Не люблю эти прощания…
— Да уж, веселого мало, — думая о своем, ответил комиссар.
— Ничего, отвоюем и вернемся! Как, Виктор Сергеич, повоюем с проклятым фашистом?
— Да уж, придется…
Отрывисто и резко звучала команда немецкого офицера. Солдаты вскинули автоматы, передернули затворы. И Евсеев, Сазонов и Клячко тоже неуверенно подняли автоматы.
— Не промахнитесь, иуды, — громко проговорил Твердохлебов.
— Лично для тебя постараюсь, — зло ответил Евсеев, загремев затвором автомата.
— Фойер! — пролаял офицер, и застучали автоматные очереди. Пленные красноармейцы падали в яму один за другим. Потом солдаты подошли к краю ямы и выпустили еще несколько очередей.
Подогнали новых пленных. Они взялись за лопаты и принялись забрасывать расстрелянных землей. Скоро вырос невысокий холмик. Вот и все.
— Вот и все, — сказал один из пленных, поглаживая черенок лопаты. — Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…
А ночью, ясной августовской ночью, когда холодная белая луна лила свой мертвенный свет, и звезды были большими и ослепительными и висели совсем низко, земля на холмике, под которым лежали расстрелянные, вдруг зашевелилась, словно задышала, стала медленно приподниматься. Комья сыпались в стороны, потом вырос бугорок, стал раздвигаться, и вот, будто видение, появилась оттуда грязная рука, потом плечо и, наконец, голова человека. Это был Василий Твердохлебов. Он с трудом выбрался наверх и долго лежал на разрытой земле, тяжело дыша грудью, черной от засохшей крови. Потом медленно поднялся и, шатаясь, пошел в ночь, в неизвестность. Где-то далеко в ночи тяжело ворочалась война — доносились отзвуки артиллерийской канонады, тяжкие взрывы дрожью отзывались, катились по земле. В ярком звездном небе прошли на восток, густо ревя, немецкие самолеты. Бомбардировщики…
В глухом лесу на поляне горел небольшой костер, и возле костра сидели трое — заросшие щетиной, которая уже походила на бороды, в рваных гимнастерках и солдатских галифе с прохудившимися коленями. Подле каждого лежал немецкий автомат. Мужики молчали, курили и смотрели на рыжие хвосты пламени, мечущиеся под дуновениями ночного ветра.
В лесной чаще послышался хруст сучьев, покашливание.
Сидевшие у костра схватились за автоматы, замерли, напряглись. И пальцы сами легли на спусковые крючки.
На поляну вышел худой оборванный бородатый человек в галифе и гражданском пиджаке, надетом на голое тело. В руках у него была винтовка. Он остановился, приглядываясь, спросил сиплым голосом:
— Э-э, славяне… вы че тут?
— А ты че тут? — в свою очередь, спросил его один из троих, постарше.
— Я ж говорю, свои! — радостно просипел человек в гражданском пиджаке, обернувшись в лесную чащу.
Треск сучьев сделался громче и гуще, и на поляну стали выходить красноармейцы, человек пятнадцать. Вид у них был не лучше, чем у тех, кто сидел у костра, а у многих забинтованы заскорузлыми старыми бинтами головы, руки, плечи.
— Ну, здорово… — загомонили гости.
— Здорово, я бык, а ты — корова… — неласково ответили хозяева.
— Ну, братцы, тьма поднебесная! Идем и сами не знаем куда. Где восток, где запад — хрен разберешь!
— На востоке канонаду слышно — туда и топать надо.
— Так ее и на севере слышно, и на юге — кругом война!
— А вы чьи?
— Сто семнадцатая стрелковая бригада Горянова, двести второй полк. А вы?
— Да кто откуда… и с тридцать второго мотострелкового корпуса, а вона Степан — с девяносто третьей стрелковой дивизии, девяносто шестой полк.
— Братцы, — спросил кто-то, — а жратвы ни крохи нема?
— Какой там — последний хлебушек вчера доели! Ягоды разные лопали, сыроежки — животы к спине прилипли.
В лесной чащобе вновь послышались похрустывание сучьев, шорох листвы и смутные шаги.
— Тихо! — сказал кто-то, и все разом замолкли, держа наготове оружие.
На поляну вышел Василий Твердохлебов. Его шатало из стороны в сторону, глаза, как у сомнамбулы, смотрели только вперед. Он шел, с трудом передвигая ноги, вдруг споткнулся и рухнул ничком в мох. Несколько солдат бросились к нему, подняли, поднесли к костру, уложили поудобней, поддерживая голову.
— Кажись, командир… пятна темные на петлицах. Две шпалы, видите? Майор…
— Ты гляди, в крови весь…
Кто-то из красноармейцев задрал гимнастерку, и все увидели на груди кровоточащие раны.
— Фью-ить, — тихо присвистнул кто-то. — Не жилец.
— Верст, поди, немало отмахал и живой до сих пор, значит, крепкий — выдюжит. Воды ни у кого нету, братцы? Раны бы ему промыть…
Кто-то протолкался к лежащему Твердохлебову, протянул солдатскую флягу…
Солнце палило нещадно. Тяжелый знойный воздух, казалось, давил на плечи.
Вереница танков с черными крестами шла на восток. На броне сидели немецкие солдаты, изнывавшие от жары и пыли. От этой пылищи мундиры их стали седыми, и на лицах осела густая пыль. Они держали на коленях автоматы, глотали из фляжек теплую воду. За танками тянулся густой пыльный шлейф, и в этой серой завесе немецкие солдаты не сразу разглядели в придорожном кустарнике мелькающие фигуры русских красноармейцев. Немцы удивились. Показывая пальцами, что-то кричали друг другу, стараясь перекрыть грохот танков. Один из солдат вскинул автомат, собираясь стрелять, но его остановили, что-то стали объяснять и опять тыкали пальцем в сторону придорожного кустарника.
А сквозь кустарник действительно продирались красноармейцы. Они торопились, старались бежать трусцой, выбивались из сил, обливаясь потом и задыхаясь. Четверо несли на самодельных носилках майора Твердохлебова, спотыкались о корни и сучья, хрипели, и пот лил с них градом, и гимнастерки были черны от пота. Их обгоняли другие солдаты, и было этих солдат значительно больше, чем тогда у лесного костра, — наверное, сотни две. А если приглядеться — весь придорожный лес кишел красноармейцами.
Несколько солдат бежали совсем близко к дороге и видели грохочущие немецкие танки, солдат, сидящих на броне. И немецкие солдаты их видели.
Вот взгляды немца и русского встретились. Немец заулыбался, пальцем показал вперед, прокричал:
— Рус! Рус! Сталинград! Сталинград! Бистро! Бистро! — И немцы захохотали, и хохот этот звучал оскорбительно.
— Марафон! — кричали другие солдаты. — Марафон! Бистро!
Слов русские не слышали, но в разводьях пыльных туч проплывали мимо них смеющиеся физиономии, сытые и довольные рожи победителей.
— Ну, суки… ну, суки… — глотая ртом воздух, выдыхал кто-то из солдат. — Еще смеются… ну, суки…
— Может, передохнём маленько, братцы? — жалобно спрашивал другой красноармеец. — Сердце в горле… не могу…
— А ты через не могу! Щас он жахнет из автомата и будешь отдыхать…
— Нет, ну какие наглые суки, а? Ржут, как подорванные…
— Нехай ржут… не стреляют — и на том спасибо…
А в той стороне, куда шли немецкие танки и бежали перелеском красноармейцы, слышалась тяжелая орудийная канонада и время от времени низко-низко пролетали эскадрильи тяжелых самолетов с крестами на боках и крыльях…