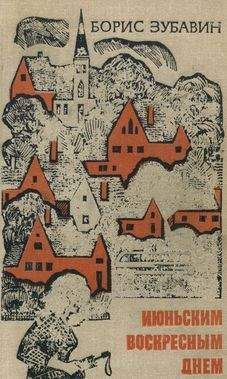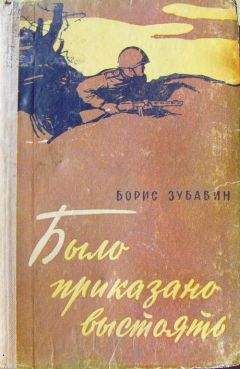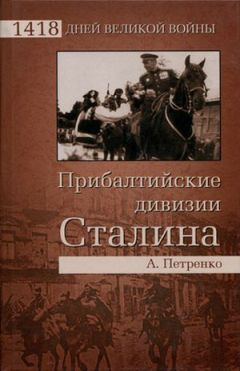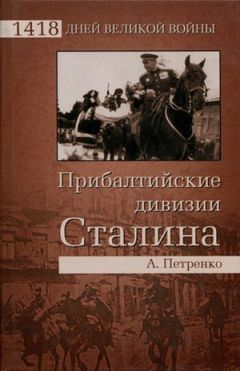Это все была правда. Я уже не однажды слышал и о номерах для жителей, и о расстрелах безвинных людей, и о том, как были разграблены колхозы. Парень все больше и больше вызывал у меня сочувствие. Видно, натерпелся он за время оккупации немало. Сажать такого в КПЗ было жаль. Однако что-то мешало мне и отпустить его. Был ли причиной тому укор, который прочел я в глазах опытного в пограничных делах Грибова, или обман, к которому прибегнул парень, но что-то удерживало меня от окончательного решения. Я колебался. На душе у меня было беспокойно. Вероятно, я все-таки держал себя с ним не так, как надо было держаться пограничнику. Однако как вести себя с человеком, за которым, собственно, не найдено еще никакой вины, который только лишь подозревается, и даже неизвестно в чем, я не знал и решил ждать Бардина.
— Вот что, друг, — сказал я, не смея взглянуть парню в глаза, считая, что поступаю с ним крайне несправедливо. — Тебе придется немного посидеть у нас.
— Итак, продолжим наш разговор, — сказал Бардин, закуривая.
Было двенадцать часов ночи. Парень сидел на стуле посреди комнаты, Бардин ходил мимо него из угла в угол, дымя папиросой. Допрос длился пятый час.
— Почему вас отправили без документов?
— Так нам казалось естественнее.
— Почему вы вышли к солдатам, а не скрылись в лесу?
— Они меня заметили. Да мне и нечего было их бояться. Такие люди обычно беспечны.
— Точнее, какие люди?
— Обычные пехотинцы. Особенно когда встречают местного жителя.
— Вы откуда родом?
— Со Смоленщины.
— Точнее.
— Издешковский район, село Маркове.
— Ваши родители живы?
— Мать жива, отец расстрелян.
— Кем?
— Вами.
— Когда?
— В тридцатом году.
— За что?
— За то, что хотел жить по-человечески, вот за что.
— Точнее. Он был кулаком?
— Он сам работал больше всех.
— Так за что же он был расстрелян?
— Я сказал.
— Это не точно. Он боролся против Советской власти?
— Он боролся за свое право. А во время борьбы за свое право убирают все, что мешает.
— О, это уже точнее. Кого же он убрал?
— Двух активистов.
— Вам в это время было сколько лет?
— Семь.
— Вы оставались с матерью?
— Да.
— Состояли в колхозе?
— Да.
— Учились в советской школе?
— Да.
— Сколько классов окончили?
— Семь.
— Когда Смоленщина была оккупирована немцами, вы поступили к ним на службу?
— Да.
— Кем?
— Полицаем.
— И потом, при отступлении немецких войск, ушли вместе с ними?
— Мне ничего не оставалось.
— Шпионажу вы обучались, как сами сказали, в Гамбурге. Долго?
— Полгода.
— И в ночь на четырнадцатое июня были выброшены с самолета в районе Суворино, Большие Мельницы. Парашют вы закопали в овраге, в пятнадцати метрах от развилки тропы на северо-запад.
— Я этого не говорил. Закопать закопал, а где, не помню.
— А я уточняю. Парашют мы нашли. Кто с вами был еще?
— Я один. Я уже говорил.
— Какое у вас было задание?
— И про это тоже говорил: встретиться с Тарасовым.
— В Малой Гуте?
— Сперва должен был в Знаменке, но потом нам сообщили, что в Знаменке разместились пограничники, и встречу перенесли в Малую Гуту.
— Когда она должна состояться?
— Шестнадцатого.
— Пароль?
— Он должен спросить: «Нет ли закурить махорочки? Своя вся извелась».
— Точнее, где вы должны встретиться?
— На южной окраине деревни.
— Когда — утром, вечером?
— В полдень.
— Как Тарасов будет одет?
— В солдатское обмундирование, в левой руке он должен держать вещевой мешок.
— Вы знакомы с ним?
— Нет. Это первая встреча. Дальше я должен был работать по его заданию.
Бардин подошел к двери, распахнул ее, позвал:
— Дежурный!
— Есть дежурный! — послышалось за дверью, и на пороге встал сержант Фомушкин.
— Отведите задержанного в КПЗ.
— Пошли. — Фомушкин вынул из кобуры наган и кивнул на дверь с таким видом, словно звал арестованного прогуляться.
Бардин прошелся по комнате, постоял возле окна, за которым уже начинала разгораться ранняя летняя заря.
— Итак, — задумчиво сказал он, глядя в окно на пустынную, тихую и однотонно серую, без теней, в этот ранний бессолнечный час деревенскую улицу. — Сегодня шестнадцатое. Сегодня должна быть встреча с Тарасовым.
То, что произошло с парнем, к которому я проникся было таким доверием и чуть не отпустил его на все четыре стороны, для меня явилось истинным потрясением. И хотя никто не знал о том, что я был так трогательно добр к нему, уши мои тем не менее горели от стыда. Мне казалось, что Бардин догадывается о моем состоянии.
— Что будем делать дальше с ним? — спросил я хриплым от пережитого волнения голосом и облизал пересохшие губы.
— Направим в РО {[3]} батальона. Мне он больше не нужен. Надо нам с вами немедленно установить наблюдение за южной окраиной Малой Гуты и взять Тарасова. Этот — птица поважнее. Он нам кое-что откроет посерьезнее. Возможно, что мы напали на след резидента. Непременно у них где-то здесь должен быть резидент. — Он потер лоб ладонью, откинул волосы и засмеялся: — Ловко мы с вами раскололи этого типа!
— Я вышлю в Малую Гуту секрет, — сказал я, отведя в смущении глаза и в то же время радуясь тому, что Бардин ничего не знает, — не знает, какой я профан. Мне в ту минуту было не до смеха и казалось, что я заслуживаю только презрения и порицания.
Отправив задержанного в РО батальона и выслав секрет на южную окраину Малой Гуты, я решил, что все уже сделано и остается только ждать, когда мой помощник, ушедший с нарядом, приведет на заставу второго шпиона.
В тот же день я вместе с Грибовым и Иваном вышел на участок для патрулирования дороги между Малой Гутой и Большими Мельницами. Шли мы уже не так весело, как вчера с болтливым Фомушкиным. Грибов, поглядывая по сторонам, молчал. Ни слова не слышно было и от моего Ивана. Он, как Назиров Фомушкину, во всем старался, кажется, подражать Грибову.
«Испортит он мне Ивана, — неприязненно, с ревнивой обидой думал я. — Одеревенеет с ним мой Иван. Надо будет пореже посылать их в паре».
Неприязненное мое чувство к Грибову теперь усилилось, хотя я не мог не отдать ему должное как человеку опытному и зоркому, сумевшему распознать врага в том, кого я готов был счесть за друга. Мне было обидно, я чувствовал превосходство Грибова над собой. И потому, что мне страстно хотелось, чтобы превосходство было на моей стороне, я решил не вмешиваться сейчас в то, что будет делать Грибов, а понаблюдать за ним со стороны. Мне тогда стыдно было признаться в этом даже самому себе, но я хотел поучиться у него.
Грибов останавливал встречных, поджидал попутчиков, проверял у них документы, расспрашивал, откуда и куда они идут. Мое присутствие нисколько не смущало и не обременяло его. Он был нетороплив, сдержанно требователен и возвращая документы их владельцам, приложив руку к пилотке, говорил одну и ту же казенную фразу:
— Все в порядке. Можете следовать.
Так мы дошли до развилки дорог, что в трех километрах западнее Больших Мельниц. Здесь решено было остановить и проверить несколько машин, изредка проезжавших мимо нас. Грибов вынул из-за голенища два флажка — красный и желтый, встал на перекрестке.
Мы с Иваном уселись на обочине; когда Грибов останавливал машину и проверял документы у водителя, тоже выходили на дорогу и осматривали кузов.
На перекрестке мы пробыли около часа, осмотрели шесть машин, ничего не нашли, и я, по привычке стеснявшийся причинить людям хлопоты и неудобства, начал чувствовать себя неловко перед теми, кто проезжал мимо нас, и к машинам подходил уже не так смело, как вначале. Все эти проверки казались мне ненужными, лишними и обременительными. В самом деле, машины принадлежат воинским частям, едут в них фронтовики, для чего же этих людей тревожить, подозревать в чем-то нехорошем, предосудительном, преступном и, следовательно, обижать их этим? Я даже с некоторой завистью смотрел на Грибова и Ивана, которые так спокойно и независимо, с сознанием своей правоты, держались с людьми и которым, кажется, были чужды те чувства, что мучили сейчас меня.
— Давайте кончать, — сказал я Грибову. — Проверим еще одну машину — и на заставу.
Машина шла порожняком, в кузове сидело шесть человек, как объяснил нам шофер, случайных попутчиков, подобранных по дороге: два офицера — майор и лейтенант, сержант, старшина и два солдата.
Грибов влез в кузов, встал посредине, широко расставив ноги, и по очереди принимал и рассматривал документы.