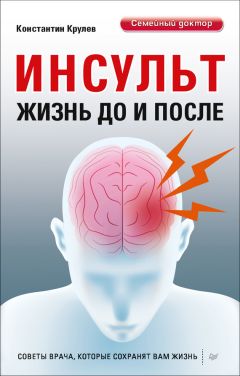Почему редактор вдруг сказал об этом Лопатину под самый конец разговора, на прощание, – кто его знает? Может, после просьбы о Вячеславе захотел напомнить, что война есть война, а не экскурсия на фронт, и нечего на себя брать лишнее – отвечать еще за кого-то, когда неизвестно, что потребуют от тебя от самого!
– Сообщил, что Хохлачев, новый наш корреспондент, погиб на штурмовике, – сказал Лопатин Губеру, положив трубку.
– Не знал его, – коротко ответил Губер и, поблагодарив адъютанта, вышел вместе с Лопатиным из приемной. И только уже там, когда шли по гулкому холодному коридору вдвоем, спросил, какой был ответ редактора на предложение Лопатина.
– Отказал.
– Я так и думал, – сказал Губер.
И Лопатин по его тону почувствовал, что совершил неловкость: говоря с редактором, за Вячеслава попросил, а про стоявшего рядом, около трубки, Губера, что он хочет на фронт, – ни слова! «Да, некрасиво вышло», – подумал он. И так прямо и сказал об этом Губеру:
– Извините меня, некрасиво вышло, что за него при вас просил, а о вас самом промолчал. Как только вернусь в Москву, исправлю это – даю слово!
Губер кивнул, но ничего не ответил.
– С выездом в Красноводск остается в силе? – сухо спросил он уже на улице, когда вышли из здания округа.
– Остается в силе, – сказал Лопатин.
Он думал, что Губер поедет в машине вместе с ним и можно будет по дороге как-то еще смягчить неловкость. Но Губер в машину не сел, сказал, что живет недалеко от штаба округа и хочет перед сном пройтись. Приказав шоферу отвезти Лопатина, руку на прощание пожал, но в глаза не смотрел; как видно, и в самом деле рассердился…
Лопатин ехал в машине рядом с замерзшим и недовольным водителем и думал: как просто и быстро решаются во время войны вопросы за спиной ничего не подозревающего человека. Раз-два, и готово! И уже не вернешься к этому. Хотя от того или другого решения могла зависеть вся дальнейшая судьба Вячеслава. И даже не в смысле жизни и смерти – можно поехать на фронт и остаться жить, а можно и здесь, в Ташкенте, заболеть и помереть, – а в каком-то еще более важном смысле: как ему дальше жить, какой жизнью?
И хотя редактор по телефону имел полное право сказать свое «нет!», все-таки в том, что вот так: раз-два, и готово! – было что-то обидное.
Вячеслав Викторович открыл дверь в пальто, накинутом на плечи поверх нижнего шерстяного белья.
– Извини, не стал ждать тебя с чаем – замерз.
Он лег на свою продавленную тахту, накрывшись пальто поверх двух одеял.
– Чай, – кивнул он на стол, на котором стоял завернутый в халат чайник. – Когда развернешь, кинь на меня еще и халат, что-то лихорадит.
Лопатин развернул чайник, укрыл Вячеслава Викторовича поверх пальто халатом и налил себе стакан чаю.
– Чай жидкий, кончается, – сказал Вячеслав Викторович.
Чай был действительно жидкий, но еще горячий. Лопатин отпил полстакана и, чтобы не забыть, пошел во вторую комнату, вынул из чемодана, принес и положил на стол осьмушку чая.
– А тебе в дорогу?
– Хватит, еще одна осьмушка есть.
Лопатин допил стакан и жадно налил еще. Ему тоже все время было холодно. И там, в штабе округа, и в машине, и здесь.
– Зачем тебя вызывали к телефону? Какие новости или перемены? – спросил Вячеслав Викторович, когда Лопатин дохлебал второй стакан чая.
– Перемен нет, – сказал Лопатин. – Еду утром второго в Красноводск. А новости… – Он помедлил с ответом и сказал то, чего не сказал Губеру: – что награжден орденом Красной Звезды.
– Поздравляю, – Вячеслав Викторович как был, в одном белье, вылез из-под одеял, пальто и халата и обнял Лопатина. – Совершить, что ли, грех, изъять из новогодней складчины? Обмыть-то надо.
– Не надо, не греши. Послезавтра на Новом году заодно и обмоем.
Вячеслав Викторович недовольно повел головой – очень хотел согрешить, но спорить не стал и залез обратно на тахту подо все наваленное на себя.
– Какой он хоть из себя, ваш знаменитый редактор? – спросил он.
И хотя вопрос был естественный, Лопатин с удивлением подумал, что Вячеслав даже не представляет себе, как выглядит человек, только что по телефону решавший его судьбу.
Он усмехнулся и сказал, что их редактор довольно обыкновенный с виду дивизионный комиссар тридцати девяти лет от роду. Не так давно, всего пять лет, носит военную форму, но выглядит в ней вполне по-военному. Роста среднего, поджарый, особых примет не имеет. Разве что одну: почти все, что бы ни делал, делает с ненормальной быстротой. При уме и характере академической образованностью не отличается; один из тех людей, которые всю жизнь сами себя образовывают, как говорится, без отрыва от производства.
– А как ты думаешь, – помолчав, спросил Вячеслав Викторович, ни разу не улыбнувшийся, пока Лопатин полусерьезно-полушутя говорил все это, – вот я два раза посылал ему туда свои стихи. И он – теперь мне это уже ясно по физиономии Губера – оба раза не напечатал. Как по-твоему: он сам-то читал мои стихи? Как ты думаешь?
– Не знаю, думаю, читал, – ответил Лопатин, думавший совсем не об этом – сам или не сам читал редактор стихи Вячеслава, – а о том, как бы все вышло, если бы редактор вдруг согласился и тут же сразу, как это у него водится, стал бы звонить о Вячеславе в Политуправление округа. А этот вот лежащий сейчас на своей продавленной тахте, под одеялами, пальто и халатом, плохо себя чувствующий и плохо выглядящий человек, формально освобожденный от службы в армии по какому-то там пункту о неполной пригодности, в ответ на твое предложение ехать вместе на Кавказский фронт вдруг взял бы да не поехал!
И даже не отказался бы прямо, а уклонился. По многим – сразу – причинам, которых в таких случаях хватает у человека. Что тогда? Решил сам – за него и без него, – что он готов ехать, и даже солгал, что просится, а потом бы оказалось, что все не так!
– Наверно, я должен был подумать об этом еще в Москве, – после молчания сказал Лопатин, глядя на Вячеслава Викторовича и решив договорить все до конца. – Хотя, с другой стороны, я не мог думать об этом заранее, не увидев тебя. То, что я скажу тебе сейчас, практически бессмысленно, – это уже невозможно сделать. И все-таки ответь мне: если бы я мог вот здесь, сейчас, обмундировать тебя, оформить документы и второго уехать отсюда на Кавказский фронт вдвоем с тобой, как бы ты решил для себя этот вопрос?
Вячеслав Викторович сел на тахте, потянув за собой одеяло, пальто и халат и прислонившись спиной к стене. Сейчас, когда он вот так прислонился к стене, стало видно, какие худые, выпирающие ключицы у него там, под грязным шерстяным бельем.
– Тебе будет странно, – сказал он, – но я сам один раз уже подумал об этом.
– И даже знаю когда. Когда я говорил тебе, что, может, попаду в армию к нашему общему знакомцу – Ефимову. Так?
– Да. Подумал, но смолчал, понимая, что это невозможно, не от тебя зависит. Не стал напрасно сотрясать воздух: ах, как бы я хотел поехать! Чувства стыда не потерял. Кое-что про меня – правда, но это клевета.
– Укройся, – сказал Лопатин, – тебе холодно.
– Мне не холодно. Только налей мне чаю – неохота вставать.
Лопатин налил стакан, подал ему и сел на край тахты.
– Еще не остыл, – Вячеслав Викторович отхлебнул глоток. Он сжимал стакан в руках, согревая им ладони. – Скажи мне, пожалуйста. Несколько раз удерживался от того, чтобы спросить у других, а у тебя спрошу: тот П. А., который иногда пишет у вас в «Звезде» очерки из действующей армии, – неужели это тот самый, которого таким смертным боем били в начале тридцатых за все, что бы он ни написал. И за идеализм, и за пацифизм, и за псевдогуманизм, и еще черт знает за что! И просто за некоторые странности его письма. Неужели он?
– Он самый, – сказал Лопатин. – Странностей его письма я и теперь не поклонник, но сам он в моих глазах выше всех похвал. Начал с ополчения, дослужился до пехотного капитана и на второй год войны, когда никто уже и не думал, где он и что он, а если и думал, считал, что этот уж, конечно, в эвакуации, – прислал в редакцию свой первый очерк, написанный от руки и без напоминаний, что он писатель. Прислал не как иногда мы, грешные, – из штаба фронта, с пометкой: «Действующая армия», а прямо с переднего края и без пометки. Пометку уже в редакции поставили. Напечатали первый – прислал второй. После второго забрали в редакцию в приказном порядке. Не только без его просьб, но и без согласия. С тех пор ездит от нас и пишет. Наши ребята-корреспонденты стараются подгадать, поехать с ним в паре. Любят молодой любовью и называют между собой «Тушиным».
– Сам его видел? – спросил Вячеслав Викторович.
– На войне не приходилось. Только раз – в редакции. Съехались с разных фронтов, выпили три чайника чая с колбасой, которую добыл нам один неравнодушный к литературе старший политрук, и обменялись сапогами. За чаем выяснилось, что мне мои велики, а ему его жмут. Между прочим, и сейчас в его сапогах.