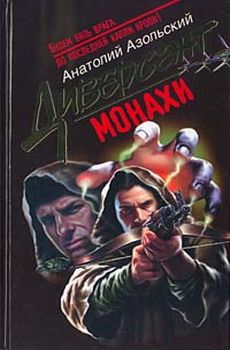Анна Бузгалина уверяла как-то, что все виды сумасшествия — вынужденные возвраты в детство, в сны, что, забываясь, оставляют о себе такую же память, как запах чего-то так и не увиденного. Однажды Бузгалин застал Кустова в холле, тот со смущенной улыбкой спрашивал о чем-то мальчугана, сына поодаль стоявшей супружеской четы. Смутился, поднялся с Бузгалиным наверх, присел рядом. Заговорил о Жозефине: очень, очень несправедливо обошелся он с нею, очень! И прервал себя, заходил по номеру, делая какие-то нелепые движения, походка — будто в правой руке грехи неподъемные. Бузгалин из номера — Кустов за ним, ходил приклеенным, выслеживал, устраивал засады и смирнехонько возвращался в номер, будто не выходил из него.
Пошли пятые сутки, Бузгалин носился по смрадному городу, в котором бывал-то всего несколько раз; он заводил знакомства, всем обещая любовь и дружбу, ловил нужных ему мужчин и женщин на улице, в ресторанах, на стадионе, все шло по плану, который возник сам собой в пансионате, рядом со спящим в беспамятстве Кустовым. Только из Лимы можно было увезти Кустова на Кубу. Уже наметился и день: 19 августа, билеты на самолет заказаны по телефону, но так, что фамилии слегка изменены и при получении билетов измененность отнесут на глупые уши девчонки в агентстве. У паспортов был один изъян: они были настоящими, не фальшивыми, и если за кем-либо из двух пассажиров тянется какой-нибудь след, то по нему дойдут до Панамы, где американская военная база и где любого могут вытряхнуть из самолета. («Ил-18» шел круизным рейсом из Гаваны в Гавану через Панаму и Джорджтаун в Гайане.)
В полдень побросали рубашки в чемоданы, Кустов, последние дни пребывавший в томительном ожидании чего-то ему не понятного, взбодрился вдруг, Бузгалин зорко присматривал за ним. Операция может сорваться по той простой причине, что она спланирована чересчур тщательно, в механизме увоза провалившегося агента все детальки так отшлифованы, смазаны и подогнаны, что крохотная песчинка в состоянии сбить работу всей системы. Одну песчинку, а точнее — камешек, удалось извлечь из застрявших шестеренок: два дня назад их нашел некий Гонсалес, бывший компаньон Кустова по пылесосному бизнесу, завалился в номер с жалобой на Жозефину, которой Кустов будто бы дал доверенность на ведение дел. Давал или не давал — об этом Кустова лучше не спрашивать, он больше разбирался в монастырских порядках, чем в неизвестных ему переговорах фирмы с поставщиками. (Провалы в памяти у него — что дырки в добротном сыре.) На мексиканца он глянул дико, Бузгалин вытолкал нежданного совладельца в коридор, сказав, что Жозефина будет со дня на день, с нею и ведите переговоры. Глянул в глаза засмущавшегося Кустова. Там — ровный ряд баранов, рога нацелены на изрытую копытцами землю, неприступная крепость. А за баранами — подозрительно спокойный лес, безмятежное голубое небо. Что-то мерзкое задумал Иван Дмитриевич Кустов, нашедший какой-то изъян в брате Мартине.
— У меня тут знакомые, — беспечно произнес Бузгалин. — Пойду проведаю обстановку… Билеты возьмем в аэропорту, время есть, вылет в семнадцать тридцать.
Он бросился названивать всем обретенным в городе знакомым обоего пола и с каждым новым разговором все дальше и дальше отбрасывал мысль о самолете, раздумывая над тем, как унести ноги отсюда — им обоим, ему и Кустову, потому что, не побывав ни в советском, ни в кубинском, ни в американском посольствах ни вчера, ни позавчера, ни в предыдущие дни и тем более этим сегодняшним утром, он по тону тех, с кем разговаривал, по отказам консульской челяди, вдруг загруженной какими-то делами, понял, что тревога объявлена повсюду, и кто первым ее поднял — уже не понять и не высчитать, но американцы догадались о каком-то чрезвычайно важном мероприятии, затеваемом Советами, и подняли на ноги всю агентуру. И как не догадаться, если сам посол Кубы уже около 14.00 был в аэропорту — на тот, без сомнения, случай, если кого-либо попридержат на контроле. Узнав о столь раннем прибытии посла, американцы, вероятно, и заподозрили что-то. Но кубинцы-то — какого черта баламутят воду? Никто ведь не знает, что рейсом этим полетят два американских гражданина, которым эта суета противопоказана.
Последний звонок прояснил все окончательно. «Джек, рада тебя слышать… — промурлыкала секретарша консульского отдела американского посольства. — А видеть не могу, дорогой. У нас тут аврал, и если так уж хочется повидаться, то давай после шести, когда страсти улягутся…»
Не зря, значит, посол Кубы в роли то ли прикрытия, то ли обеспечения, и когда никого при посадке в «Ил-18» не задержат, американцы станут разыскивать в Перу двух спугнутых ими граждан, приметы, возможно, уже разосланы. Аппарат ЦРУ здесь обширный, люди расставлены повсюду, искать будут сперва по гостиницам, а затем прочешут всю страну. Бежать! Немедленно. Но — куда?
Куда и когда — за него решил Кустов, сбежавший из гостиницы. Бузгалин нашел его, дрожащего от страха, на вокзале, уже под вечер. Взял за руку, увел к океану, положил на песок, сел рядом, надеясь на рокот волн, на берег этот набегавших и пятьсот лет назад, и вчера. За те сутки, что прошли со встречи брата Родольфо с братом Мартином на холме невдалеке от Бриндизи, Кустов насыщался и напитывался словами и образами, как подрастающий ребенок, с тем отличием, что скакал — день за днем — в развитии от года к году. Когда начался прилив, Бузгалин оттащил Кустова от наползающей белой бахромы волн, пристроил его тело к разъеденной солью лодчонке, гладил по головке, приговаривал что-то колыбельное, помогая ему одолевать ужасы средневековья, когда люди, уже пообщавшись достаточно, исходив вдоль и поперек свою страну и чужую, уразумели собственную подлость, мерзость, увидели бездну, которая разверзлась, которая манила; существование в мерзости становилось уже нетерпимым, и брат Родольфо был одним из тех, кто спасал человечество от укусов населявших его зверей, насекомых, гадов; грех и покаяние владели умами; исповедь напоминала судебный процесс, в котором человек обвинял сам себя; отделение овец от козлищ не сулило овцам ни спасения, ни прощения; человечество же исторгало из себя чудовищ, грызших изнутри его черепную коробку, художники и скульпторы рисовали и ваяли страшных птицепресмыкающихся, с уродливой ухмылкой смотрят они до сих пор с гравюр, мозаик и фресок, капителей церквей и храмов; под перьями монахов заглавные буквы рукописей превращались в фигурки скалящих зубы драконов, а невиданные никем растения обвивали кривые и стройные пьедесталы букв; первые картографы в очертаниях некоторых стран видели рыкающих львов, а моря рисовались обязательно со змеями, длиной от Британии до Африки; пасти левиафанов готовы проглотить всю Европу, сцены Страшного суда с грешниками, имя которым легион, украшали порталы соборов, в ходу были миниатюры, изображавшие смерть, простертую над миром; ангелы трубили, возвещая конец света, праведники отделялись судом от грешников в пропорции, не сулящей рая никому; осужденные понуро плелись к котлам с кипящим маслом; души человеческие терпели поражение за поражением, даже если за них заступалась сама Дева Мария; демоны пожирали эти души на капителях церквей; все было грехом, даже отпущение их; молнии карали хороводы и в церквях, и на лугах в крестьянские праздники, красота и уродство соседствовали рядом; именно в эти лихие времена образ мохнатого и хвостатого черта с копытцами навек остался в мозгах, осязательно и зримо являясь в алкогольных страданиях, — в мозгах, потому что места ему не нашлось на Земле. Таким чертом мог прикидываться бес, и бесов этих надо было изгонять, корчеванию подлежали человеческие души.
Вымачивая носовой платок в воде, он остужал пылающий лоб Кустова и сочинял в уме угрожающую докладную начальству — о недопустимости в дальнейшем столь нещадной эксплуатации людей: не пять человек висело на Иване Кустове (что оправдано всей практикой разведслужбы), не семь (критическое число), а восемнадцать, и любой свихнется от такой нагрузки.
Самую страшную докладную он не решался даже мысленно составлять, и, положа руку на лоб впавшего в забытье Кустова, так и сяк обдумывал тот застольный разговор на даче, где он спросил у начальства о провалах. Даже Малецкий и Коркошка не знали, кто такой мистер Эдвардс, в ночь с 31 июля на 1 августа пересекший чешско-австрийскую границу. Ни в Риме, ни в Нью-Йорке никого из американских и неамериканских знакомых он не встречал. И тем не менее — в Лиме были наготове. Произошла, возможно, трагическая накладка: выдан был человек, которого — вместо Бузгалина — протащили через все резидентуры Европы, а человек этот на собственный страх и риск решил спровоцировать ЦРУ и ФБР.
Бузгалин разорвал кредитную карточку «Дайнер клаба» и поднял Кустова. На того временами нападало прозрение, мозги становились современными, ясными, и в такие минуты Бузгалина посещала издевательская догадка: а не притворяется ли тридцатисемилетний мужчина, не играет ли он мальчишкою какую-то роль, нарепетированную им много лет назад в поселковом Доме культуры?