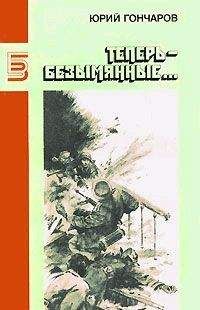Пока комендант хлестал Копытина обычной руганью, Копытин, стоя перед ним навытяжку, молчал. Он понимал, что виноват, и покорно принимал брань. Но когда комендант в пылу начальственного гнева стал грозить Копытину фронтом, штрафным батальоном, где его научат дисциплине, где ему самое место, как разгильдяю, пьянице и без одной минуты предателю, – Копытин вскипел. Крепко сжав челюсти, он тяжело, пьяно шагнул к столу, отделявшему его от коменданта, протянул руку, наложил пятерню на комендантскую макушку со светлым кружком плеши и с силой всадил его всем лицом в горячую рисовую кашу...
Суд и расправа над Копытиным свершились в темпах военного времени. Друзья его, однополчане, ничего не ведая о судьбе Копытина, не успели еще доехать до Урала, а ему уже зачитали бумажку, лишавшую его сержантского звания, заслуженных на передовой медалей, отдыха в тылу, и, сопровождаемый стражниками, на этой же станции Рассказово Копытин был сдан под расписку в эшелон, в дивизию, которую спешно мчали на фронт, и приписан к роте Зыкина, получившего насчет Копытина от рассказовских военных властей особые предупреждения.
Никогда Копытин не числился преступником, его положение было для него новым, нес он его с великим душевным удручением и, очутившись в вагоне, среди строгого, незнакомого сибирского народа, ожидал, что и сибиряки отнесутся к нему как к преступнику, в соответствии с тем, как трактовали Копытина составленные на него бумаги. Но происшествие на станции Рассказово, когда про него узнали, вызвало у солдат и у ротных начальников только смех и самое неподдельное искреннее сочувствие Копытину.
Ему же, однако, было не до смеха. Ничего веселого в своей истории Копытин не находил. Мало того, что пропали отдых в тылу и, следовательно, месяц-полтора верной жизни без бомбежек, минных обстрелов и постоянного риска, мало того, что он снова ехал на фронт, под пули, вновь на игру со смертью, которая рано или поздно, но всегда выигрывает, мало того, что он снова был рядовым, как в начале войны, – с него еще сняли и все его боевые медали. Не бог весть какие это были награды – не ордена из золота и серебра, но они были заслужены честно, кровью, муками в болотах на Припяти и Десне, где ревматизм и лихорадка косили людей хлеще немецких пуль, вручены ему на передовой его командирами, которые знали ему настоящую цену, не как те, что судили его и изломали ему судьбу в пять минут. С этими медалями Копытина как бы лишили и всего славного фронтового прошлого, которым он скромно, потихоньку, про себя, гордился, всего им сделанного, выстраданного, вынесенного. И это было для Копытина горше и обидней всего...
– Ложись! – пронзительно закричали в коридоре.
Из дыма с немецкой стороны вылетело черное железное яйцо гранаты, ударилось в бруствер, как раз перед Прохоренко, и на миг влипло в податливую ткань мешка, вмяв гнездо в его песчаной набивке. Из гранаты сочился дымок, ее сотрясала заметная глазу нутряная дрожь – в ее середине горел запал, отмеривая последние перед взрывом секундные доли.
Прохоренко сполз с пяток на пол, обмякло отвалился корпусом в сторону, к стене. Его губы беззвучно шевелились, он точно силился что-то сказать, глаза прикованно, расширенно глядели на черное яйцо.
Безусловно, он был бы убит, как был бы убит и Копытин, и другие, что находились возле них, поблизости, если бы Копытин в следующий миг с нечеловеческой, какою-то совершенно звериной быстротой, на которую вдруг оказалось способным его утомленное тело, не прянул к гранате. Соскользнув с бруствера, она падала на пол, и до взрыва, верно, оставалось уже совсем ничего. Копытин подхватил ее на лету и выкинул наружу сквозь квадратный проем разбитого коридорного окна.
Рука у Прохоренко, когда он передавал Копытину «бычок», подрагивала. Копытин сунул окурок в рот, жадно потянул горячий махорочный дым, в одну затяжку высосав весь «бычок» до конца.
По коридорным окнам, отбивая от стен штукатурку, полоснула пулеметная очередь, откуда-то сверху, с выступа здания, видного в разбитые, расщепленные, без единого стекла рамы.
И сейчас же позади, в противоположном конце коридора, тяжкими обвалами грохнули взрывы гранатных связок, зачастили немецкие автоматы, свидетельствуя, что немцы сорганизовались, пополнили свои ряды и от осады перешли к активному напору.
Коридор изгибался, с того места, где находились Копытин и Прохоренко, было не разглядеть, что происходит там, где начали нажимать немцы, – гремели только выстрелы, оглушительно отдаваясь в пространстве коридора.
Потом на стенах заплясали отсветы яркого пламени. По знакомому запаху, ударившему в ноздри, Копытин сообразил, что немцы пустили в дело огнемет.
Не видавшие этого оружия бойцы еще только смекали, сколь велика от него опасность, но Копытин понял сразу же.
Ну немцы! Ну хитры, ну коварны! Зажали, замкнули со всех сторон и теперь, чтоб не терять своих людей, хотят покончить с красноармейцами скорым и верным способом – сжечь всех живьем!..
По окнам опять простучала пулеметная очередь, отбивая от рам щепу. Прошлый раз пулеметчик сумел кое-кого достать, теперь бойцы были настороже, умнее – с первыми пулями метнулись под низ оконной стены.
Жаркие отблески ширились, полыхали ярче, ближе. Озарив всю видимую часть коридора, прошипев, сверкнула огненная струя и словно взорвалась бешеным пламенем. К желтому смраду тлеющих перин прибавился черный, смолистый дым самовозгорающейся жидкости. Он клубился в желтом отдельно от него, не смешиваясь, стремительными спиралями, завихрениями, с какою-то буйною, злою энергией. Сквозь выстрелы, шум, гулкое эхо, гремевшее в здании, снаружи в окна доносились крики на немецком языке. Они звучали, как ликование врага, от них еще сильнее становилось чувство полной безысходности, конца.
Чадный гудящий огненный вал надвигался из глубины коридора во всю его высоту. Теснимые огнем, бойцы пятились, били из винтовок в его обжигающее жаром кипение, за которым скрывались немцы с огнеметным аппаратом. Один солдат, обрызганный жидкостью, свалился на пол, корчась, катался в толпе, под ногами у людей. В сумятице его не замечали, топтали ботинками. Пылающими руками он рвал на себе одежду, пытался ползти от подступающего огня. Пламя, отбросив солдат, внезапно накатилось бурной волною, и горящий, орущий диким голосом человек исчез в его клубах.
Еще струя жидкости, с силой выброшенная из аппарата, шипя, пронизала бушевание пламени, ожгла потолок, стены, захватывая новую часть коридора. Огненный ливень полился сверху на бросившихся в разные стороны бойцов. Мгновенно взрывчато вспыхнули стены, покрылись текучими, черно-красными языками. С десяток солдат, не выдержав, сдавшись страху, побежали в свободную от пожара половину коридора, толкая друг друга, спотыкаясь, валясь на тех, кто хоронился возле Копытина за баррикадой. Трое, совсем без рассудка, перемахнули через наваленные мешки и пустились дальше.
– Куда?! – взмахнул руками Прохоренко, пытаясь схватить, остановить бегущих. – Там немцы! Куда?!
– Обалдели?! Назад! – закричали им вслед.
Навстречу бегущим ударили автоматы. Двое упали, с разлету покатившись по полу, третий, подстреленный, присел и с тою же опрометью, с какою бежал на немцев, сильно хромая, кинулся обратно, под защиту баррикады.
Пулеметчик, снаружи с угла корпуса следивший за коридорными окнами, заметив мелькание фигур, опять прострочил по оконным проемам.
Тоскливый, сосущий, предсмертный холод заныл под сердцами у всех, кто был в коридоре. Крышка, сказало каждому сознание, дороги нет никуда.
Тоненький, белобровый, с детским лицом Коля Панкратов, совсем мальчишка, без пилотки, дыша открытым ртом с видным в нем розовым язычком, подполз к Копытину и прилег возле него на полу. В детских глазах Коли Панкратова были и страх, и томление, но более всего в них было ожидания, почти мольбы, направленной Копытину. Он смотрел на бывшего сержанта так, точно тот мог – и Коля ждал этого, просил его об этом – придумать и сделать сейчас такое, что спасет, вызволит всех из беды, сохранит всем жизнь. Еще люди приблизились, подползли к Копытину и Прохоренко, хотя они были ближе всех к немцам и возле них было опасней, чем позади, за их спинами. Копытин обвел взглядом жавшихся к нему людей: у всех было то же самое, что у Коли Панкратова, – ожидание чуда, которое должен был он сотворить... Наступали страшные, видно, последние для всех минуты, что понимали и чувствовали все, и в эти минуты, когда уже не было больше никаких других надежд, неоткуда было ждать спасения, когда уже ничто больше не могло помочь – самую свою последнюю надежду люди обратили к нему, Копытину, как-то разом, все одновременно вспомнив, что он единственный среди них опытный фронтовик, что он носил звание сержанта, имел боевые награды, которые не дают даром, а только за настоящее мужество в настоящих боевых делах. Обреченные люди собирались ближе к Копытину, движимые одним инстинктом, без слов отдавая себя его опытности, в стихийной, у всех появившейся в него вере, вере в то, что только он сейчас знает, что нужно всем делать, как надо поступать. Не только для Прохоренко, называвшего Копытина его старым званием, для всех в этом дымном, объятом пламенем коридоре Копытин снова был сержантом, старшим надо всеми командиром. Отнятое у него звание было снова при нем, возвращено ему окружавшими его бойцами, ждавшими и жаждавшими его власти, готовыми ему повиноваться, куда бы он ни повел, что бы он ни потребовал, ни приказал.