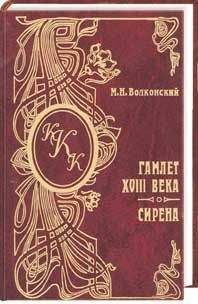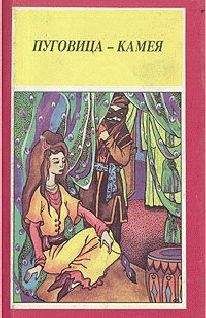и фермы тоже, до сих пор живет так, словно здесь все еще существует феодальное баронство. Святой боже! Так ведь эти люди просто сумасшедшие, сумасшедшие! Они бросаются на всякого чужого и кусают его! Кусают, как бешеные собаки!
Круг замкнулся. По мнению деда, взбесилась сначала Кристин, а потом она, Анна-Мария. Для тетки бешеной собакой был Ианн ле Бон. Нет, нет никакой надежды на взаимное согласие между ними — так же, как между фермой и портом Пулиганом, который принял иностранцев чуть настороженно, но без сопротивления. Они хорошо платили за две комнаты и с удовольствием ели рыбу — чего же еще можно требовать от чужих, да к тому же и не «красных»?
И все же… Все же именно Кристин ле Галль уговорила бабку. Как-то раз она пришла на ферму и долго разговаривала с ней с глазу на глаз. В это время Анна, которая пришла вместе с теткой и Эльжбетой, пользуясь отсутствием Катрин, показала новой подруге свою комнату. На половину деда Анне-Марии войти не разрешили. Эльжбета, попав в большую комнату, стены которой были заставлены деревянными шкафами, отполированными до блеска, недоверчиво осмотрелась вокруг.
— Но ведь это обыкновенная столовая, с буфетами, украшенными красивой резьбой. А где спальня? Ведь ты как будто бы спишь в шкафу? Как все бретонцы.
Анна молча подошла к шкафу, который днем имел вид большого буфета, у которого передняя стенка была покрыта резьбой, и открыла дверцы.
— Бывают высокие шкафы, на четыре постели, и такие, как этот, — на две. У некоторых вместо ажурных дверей — занавески. Скамейка перед шкафом может служить столиком, когда больному ставят миску с едой, а иногда пользуются как табуреткой, если кто-то хочет сесть у ложа. Здесь спят Катрин с Пьером.
Слушая объяснения подруги, Эльжбета долго рассматривала то, что было внутри: покрытое вышитым покрывалом супружеское ложе, гору хорошо набитых пером или сеном подушек и маленькую узкую полку, прикрепленную к задней стенке. Она спросила, зачем эта полка, раз люди спят в шкафу, а одежду прячут в сундуки? Анна-Мария в этот момент почувствовала свое превосходство над подругой.
— Должны же они куда-то положить носки, кофточку, сухую рубашку? Ведь никто же не ходит по комнате раздетый.
— Ты говоришь: сухую? А когда она бывает мокрой? И почему нельзя раздеться перед тем, как влезть в шкаф?
Хорошо, что эти смешные вопросы не слышал Ианн, иначе у него начался бы приступ бешенства, но они были одни, и Анна-Мария объяснила Эльжбете, как маленькому ребенку, что в шторм и дождь все возвращаются домой промокшие до нитки. Мокрые рубашки сушат у камина, где обычно теплее, хотя не настолько тепло, чтобы вещи, развешенные для сушки, высохли к утру. А что касается раздевания перед сном? Но ведь в этой комнате вдоль двух стен стоит несколько шкафов, и в них спит все семейство ле Рез: двое мужчин и три женщины. Святая Анна Орейская! Как бы это выглядело, если бы каждый ходил раздетым? Мужчины, перед тем как влезть в шкаф, снимают только шляпы и сабо, а женщины — накрахмаленные чепцы, иногда юбки, но и то когда сидят уже на сеннике. Обычно они влезают в шкафы последними — после того, как проверят, все ли в доме в порядке и потушен ли свет.
— Это значит, что вся семья может спать в одной комнате, не мешая друг другу, и никто никого не видит во время сна? — спросила Эльжбета.
— А как же иначе? Ажурные решетки или занавески закрываются на ночь, и каждый чувствует себя в безопасности в своей деревянной коробке. Кроме того, так теплее, намного теплее. И никто никогда не слышал о том, чтобы с кровати упал больной в горячке или беспокойно спящий ребенок, а ведь это случается даже в сиротском приюте в монастыре, где у деревянных нар, открытых со всех сторон, ночью должна дежурить одна из послушниц.
Эльжбета молча слушала эти объяснения. Она внимательно рассмотрела вырезанные на передних стенках шкафов фрукты, крестики, пробитые стрелами сердца, висящие на боковых стенах картинки со святыми и большой стол посередине комнаты. И, закончив осмотр, уже выйдя в сени, сказала с ноткой восхищения в голосе:
— Это же прекрасное место для игр! Здесь можно с самого утра, закрыв двери шкафов, принимать гостей. Все блестит, вокруг полно резных украшений. А в наших спальнях с утра такой беспорядок… — И добавила: — Тот, кто с детства привык спать в тишине и темноте, должен чувствовать себя несчастным, если уезжает отсюда в Нант или Париж?
— Ох! — проворчала Анна-Мария, невольно подражая пренебрежительной манере своего деда. — Отсюда уезжают только «красные», а они легко привыкают ко всему.
— Все? — удивилась Эльжбета.
— Ну нет. Кто поумнее, те забирают с собой в города бретонские шкафы-ложа и выигрывают вдвойне: закрываются от городского шума и могут дольше видеть во сне детство, армориканское побережье. Во всяком случае, так говорит дед.
Они вышли во двор, но старые хозяйственные постройки понравились Эльжбете гораздо меньше, а при виде каменных оград, отделяющих друг от друга отдельные участки земли, она только пожала плечами. Девочка удивлялась тому, что здешние жители так боятся осенних и зимних ветров и столь заботливо весной оберегают свою землю от семян сорняков, прилетающих со стороны океана. Это в конце концов вывело из себя Анну-Марию, и она едко заметила, что Эльжбета так же не может рассуждать о бретонских вихрях — не зная их силы, как ей трудно поверить в то, что в этой Варшаве никто не боится метелей и обморожений, ведь мороз досаждал там даже экс-консулу Бонапарту.
— О ком ты говоришь? — удивилась Эльжбета. — Ведь он во время отступления из-под Москвы был уже императором. Великим императором вас, французов.
Анна-Мария неожиданно почувствовала, что в ее жилах течет добрая бретонская кровь, такая же, как та, что волной ударяет в седую голову старого Ианна ле Бон. Она сердито ответила:
— Я — не француженка. Мы, бретонцы, и прежде всего те из них, кто никогда не болтался по портам побережья, мы — tout court — здешние, из Арморика. И если я с тобой не говорю по-бретонски, то только потому, что ты знаешь лишь язык этих республиканцев, «красных». Но я — двуязычная.
Эльжбета посмотрела на нее внимательно, как будто на фоне каменного дома увидела совершенно другую Аннет — не «раздетую», выходящую из моря с мокрыми волосами, с ногами в пене. И только тогда сказала тихо и даже как-то смиренно:
— Не сердись. Я ведь тоже двуязычная…
Ну конечно, ведь она вовсе не была француженкой и не имела ничего общего с