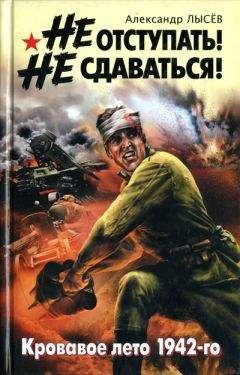Егорьев пощупал хлеб: тот действительно не уступал по качеству свежевыпеченному. Однако один недостаток лейтенант все же отметил:
— А запах хлебный утрачен.
Синченко усмехнулся:
— Тут уж, как говорится, не до жиру, быть бы живу.
— Нет, у нас хлеб вкуснее, — покачал головой Егорьев, попробовав немецкого. — У нас чувствуется, что хлеб ешь, а это мякина какая-то.
— Ну что, лейтенант, куда остальное-то девать будем? — спросил Синченко. — Набрали до отвалу.
— Раздадим всем бойцам взвода.
— Вообще-то полагается сдавать трофейщикам, — напомнил Синченко.
— Как вам не стыдно! — набросился на него лейтенант. — Если сами напихали, аж карманы поотвисли, так другим, значит, дулю? Нет, пусть все по справедливости будет, они не хуже вашего воевали.
— Ваша воля, — пожал плечами Синченко.
— Золин, вызовите сюда сержанта Дрозда, пусть разделит содержимое между солдатами, — приказал Егорьев. — И особенно смотрите, чтобы сигареты не зажулил… Да, еще скажите старшине, чтобы подготовил список убитых и раненых.
— Доверять Дрозду сундук, что козлу огород, — усмехнулся Золин.
— Ладно, идите, идите, — рассмеялся Егорьев. — Если что, мы ему всем взводом рога отшибем.
Все захохотали, довольные ответом лейтенанта, и Золин, улыбаясь, вышел из блиндажа.
Минут через пятнадцать в блиндаж явился сержант Дрозд. Положив на стол список, вытянулся по стойке «смирно». Сержант за рекордно быстрое время просмотрел и перерисовал фамилии убитых и раненых и теперь, гордясь своим трудом, подобострастно смотрел на Егорьева.
— Вы это зачем? — кивнул головой на список лейтенант.
— Пришел делить трофеи в соответствии с вашим приказанием, — отрапортовал Дрозд.
— Нет, я не о том. Почему вы список составляли, ведь было приказано старшине. Где Кутейкин?
— Убит, — ничуть не изменившимся тоном произнес сержант.
Егорьева как громом ударило. Мгновенно побледнев, он отошел к столу и, сев на табуретку, приказал Дрозду:
— Берите сундук и шагом марш отсюда.
Тот, обхватив руками сундук и чуть не застряв с ним в узком проеме двери, поспешил покинуть помещение.
Егорьев обхватил голову руками и закрыл глаза. Старшина. Насколько привык он к этому человеку. Такой опытный, всегда рассудительный, хладнокровный, он был, казалось, сама надежность. И, чего уж там говорить, взводом Егорьев командовал не без его помощи и совета, даже, пожалуй, они вдвоем командовали. Кутейкин был правой рукой лейтенанта, а что теперь? И снова мысли Егорьева пришли к тому же: «Будь проклята эта война!…»
С пришедшим на только что взятые рубежи вторым взводом на новые позиции Егорьева прибыл старший лейтенант Полесьев. Ротный явился в блиндаж в сопровождении своего ординарца и фельдшера. Последний первым делом осведомился, есть ли здесь раненые. Егорьев молча указал на лежащего на кровати немца. Фельдшер направился к нему, а Полесьев, приказав всем остальным покинуть помещение, отошел вместе с лейтенантом в противоположный угол блиндажа. Оба присели за стол. Ротному необходимо было отдать Егорьеву кое-какие распоряжения и в то же время не хотелось начинать с сухого делового тона, а, наоборот, было желание сказать лейтенанту что-нибудь теплое, одобряющее, ведь для того это был все-таки первый бой. Но подходящих слов как-то не находилось, и поэтому Полесьев молчал. Первым заговорил Егорьев. Не глядя на ротного, тихим голосом сообщил:
— Кутейкин погиб.
Полесьеву тут же вспомнился этот старшина, пытавшийся выгородить отставших от роты бронебойщиков. Старшина тот на памяти Полесьева остался нагловатым малым, но, видя столь удрученный вид Егорьева, Полесьев сказал:
— Жаль.
И снова наступило молчание. Наконец, видя, что каких-либо приветливых слов в адрес лейтенанта ему сказать так и не придется, Полесьев перешел к делу:
— Ваши потери?
Егорьев, не зная, считать или не считать полесьевского телефониста, на мгновение замешкался, потом сказал:
— Десять убитых и четверо раненых.
И все же считая необходимым сообщить, произнес:
— Еще ваш телефонист.
— Та-ак… — протянул Полесьев. — Потери противника?
— В траншеях обнаружено семь трупов. Захвачен один пленный. О раненых судить не могу — ушли за реку.
— Если таковые имелись, — усмехнулся старший лейтенант и, тут же вновь приняв серьезное выражение лица, сказал:
— Вам приказано отойти на исходные позиции. Здесь займет оборону второй взвод. — И, как бы извиняясь, добавил: — Сами понимаете — авангард. А у вас едва-едва двадцать человек. Поэтому если что, так полнокровный взвод все надежнее.
Ротный поднялся и, хлопнув Егорьева по локтю, сказал:
— А вообще-то молодцы. Вас и особо отличившихся солдат представим к награде. Сейчас здесь закругляйтесь — и всем, кроме охранения, отдыхать. Молодцы! — повторил он еще раз. И уже собирался уходить, как вдруг раздался зуммер телефона.
Егорьев взял трубку и, протягивая ее через несколько секунд Полесьеву, сообщил:
— Вас, комбат.
Разговор был короток. Ротный проговорил в трубку всего лишь одно слово: «Буду» — и вышел из блиндажа.
Егорьев отправился делать необходимые для перебазировки распоряжения.
Выйдя от лейтенанта и захватив с собой ординарца, Полесьев, спустившись по склону высоты, шел в штаб батальона. Капитан Тищенко приказывал срочно явиться на какое-то экстреннее совещание, и теперь Полесьев ломал голову, чему это совещание может быть посвящено и к чему такая спешка. Он уже миновал бывшие всего несколько часов назад нашим передним краем позиции и вышел на дорогу, ведущую в хутор, когда сзади громадным, громыхающим облаком пыли его нагнал грузовик. Водитель резко затормозил, остановив машину прямо перед Полесьевым и его ординарцем.
— Вам до хутора? — спросил высунувшийся из окошка кабины шофер с всклокоченной косматой головой.
— До хутора, — отвечал ординарец.
— Тогда лезьте в кузов.
Полесьев и ординарец не заставили себя просить дважды, и через минуту оба уже тряслись по ухабистой дороге в кузове полуторки, слушая с середины рассказ о приемах охоты на медведя, который поведывал сидящий у заднего окна кабины молодой солдат с зажатой меж колен винтовкой своему соседу. Сосед, по-видимому, уроженец Средней Азии, затаив хитроватое выражение в глазах-щелках и то и дело кивая головой, будто бы слушает, искоса поглядывал на Полесьева с ординарцем, выпуская синие клубы дыма из маленькой изогнутой трубочки, замершей в уголке рта. Так продолжалось минут пять, пока вдруг сам рассказчик, оборвав себя на полуслове, резко повернулся к кабине и прикладом винтовки несколько раз грохнул по железной крыше:
— Эй, Макарыч, останови на минутку!
Шофер, врезав по тормозам с такой силой, что все сидящие в кузове чуть не попадали со своих мест, приоткрыл дверцу кабины:
— Чего тебе, Андрюха?
— Чего-чего, — усмехаясь, перепрыгнув через борт на землю, сказал Андрюха. — Говорю же: минутку!
И направился в придорожные кусты.
— А-а! — понимающе протянул шофер и, встав на подножку, заглядывая в кузов, спросил: — Больше никому не надо?
Выяснилось, что «надо» полесьевскому ординарцу. Вслед за ординарцем спрыгнул и сам Полесьев, решив немного размять ноги, затекшие при сидении на протянувшейся вдоль борта грузовика узкой неудобной скамеечке. И солдат, и ординарец вернулись быстро, забрались в машину. Ординарец подал Полесьеву руку, перегибаясь через борт, и ротный уже готов был за нее схватиться, мельком увидав смеющееся лицо закрывающего дверцу шофера, как вдруг откуда-то со стороны реки послышался быстро нарастающий свистящий звук, и в ту же секунду перед глазами старшего лейтенанта взвихрилось багровое пламя, стеганув по ушам оглушающим грохотом. Сразу несколько осколков, сокрушая на своем пути реберные кости, вошли в грудь Полесьева, его отшвырнуло назад на добрый десяток метров от грузовика и с силой ударило о дорогу. Лежа на спине, он открыл глаза, и, к его удивлению, все звуки, сколько он ни вслушивался, неожиданно исчезли вокруг — он оглох. Он попробовал пошевелиться — тело было непослушно, но боли он не почувствовал, лишь тупо засаднило в переломленном позвоночнике. Оставаясь на одном месте, он смотрел на объятый пламенем грузовик с в клочья разнесенной прямым попаданием снаряда кабиной, на отлетавшие от бортов быстро превращающиеся в головни доски, на перегнувшуюся, неподвижную и все еще как будто подающую ему руку фигуру ординарца, которую со спины уже лизали языки пламени, смотрел, и в мозгу, в единственно еще живой его, Полесьева, части, остановилась одна мысль, одна фраза: «Как все оказалась до смешного глупо…» И последнее из чувств его, чувство сожаления за свою окончившуюся жизнь, не находя более места в искореженной груди, острым спазмом остановилось в горле. Судорожно сжимаясь помимо его воли и сознания, из горла, пытавшегося издать крик, вылетел слабый хрип, ибо на крик уже не хватило сил.