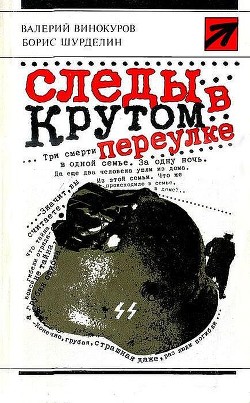Привалов ответил не сразу. Лицо его стало серьезным, задумчивым. Я вспомнил, что он часто выглядел таким раньше, когда мы, будучи почти незнакомыми людьми, встречались в компании. Он производил впечатление человека малоинтересного, скучного в общении. Потому что чересчур много молчал и думал о чем-то своем. Но сегодня-то я знал: за таким молчанием последует нечто важное, сейчас уж, очевидно, самое важное из того, что ему осталось мне сообщить.
— Нет, доктор, — заговорил, наконец, Привалов, — не я втянул вас в эту историю. Сама жизнь втянула. Когда я спросил вас, помните, говорит ли вам что-нибудь фамилия Сличко, и вы ответили, что никогда не слышали такой, вот тогда я решил: вы должны пережить эту историю вместе со всеми. Не знаю уж, как сказать: то ли это был мой долг перед вами, чтобы вы приняли в ней участие, то ли это ваш долг, наш общий долг — пережить ее вместе. Если бы вы шали, что такой Сличко существует, я бы вас, вероятно, не привлек. Сами бы интересовались, переживали бы за это дело, пока я вел бы его. А сказать вам сразу все о Сличко, сказать то, что вы сейчас услышите, я тогда не мог, не имел права. Вы могли мне помочь, и помогли, лишь собирая объективную информацию, а для этого вы не должны были знать всего…
Он снова замолчал. Мы с Елышевым не дышали, чтоб не помешать, не прервать его.
— Этот Сличко, — продолжил Привалов, глубоко вздохнув, — как раз тот самый полицай, который пинком сапога выбил табуретку из-под ног вашей матери, доктор.
— Моей матери?
Привалов не шелохнулся, не поднял на меня глаз. Он словно не видел моей растерянности, моего смятения. Человек, конечно, привыкает ко всему, даже если ему еще долго до сорока. Видимо, он привык своими словами переворачивать людям душу и оставлять слушателя как бы наедине с узнанным. Но и Елышев вел себя так же. И я мысленно поблагодарил их за это.
А Привалов медленно продолжал:
— Ваша мать была именно тем человеком, который оказал первую помощь летчикам, скрывавшимся на Микитовке. Родному отцу Володи Бизяева и его живому отцу, тому, кто вырастил пария. Вы же знаете, как она осталась в оккупированном Новоднепровске. Не могла бросить больницу, своих больных. Вот так-то, доктор, если не знали — узнайте.
— Нет, о ее подпольной деятельности… работе… я знал. О летчиках… теперь соображаю… тоже слышал… давно. Но о казни, о том, что было во время ее казни… о казни мне никогда никто…
— С войны прошло уже столько лет, — сказал прокурор, — по ее следы…
Мама, мама, повторял я молча. И вспомнил вдруг нашу больницу — мамину и теперь мою. И вспомнил яруговские липы в парке. До войны мать любила водить меня в этот чудесный сад. И в последний наш с ней день мы гуляли там. Липы как раз цвели. И в тот же день эшелон увез меня, десятилетнего, далеко на восток.
— …иногда эти следы войны, — услышал я спокойный, мягкий голос Привалова, — обнаруживаются невероятно где. Хотите, я вам расскажу, как впервые столкнулся с ними? Это было мое самое первое дело. Я только что закончил университет, отпуск проболтался в Новоднепровске и первого августа явился в прокуратуру. Меня назначили помощником прокурора города и района, и я должен был представиться начальству…
Я попробовал вслушаться в его слова, но у меня ничего не получилось.
ПО СЛЕДАМ СОРОК ТРЕТЬЕГО
/Новоднепровская хроника, февраль-март 1963/
Можете представить себе, какие чувства владели мной все это время — три долгих зимних месяца — после того, как я узнал от Привалова, что именно полицай Сличко участвовал в казни моей матери. Да, человек привыкает ко всему, но когда прошлое так властно врывается в настоящее, можно ли смириться с тем, что время порой заставляет о прошлом забывать? Нет, я не могу забыть, я должен узнать все, что можно, от тех, кто еще жив. В этом я видел теперь свой долг перед матерью, перед ее погибшими товарищами. Узнать и обо всем написать. Чтобы рассказать людям.
Того же потребовали и новые события.
1
Новоднепровские металлурги с начала года, вот уже второй месяц, радовали плановиков и заказчиков. Сегодняшняя смена Сергея Чергинца ничуть не отличалась от предыдущих: сталь шла нормальная, заказная, и время летело незаметно. Правда, к концу смены, часов в десять вечера, он вдруг почувствовал, что клонит ко сну: с утра пришлось помотаться по городу в депутатских заботах. У печи сон отступал будто сам собой, но уже в автобусе, по дороге домой, Сергей задремал, положив голову на острое плечо Володи Бизяева, своего третьего подручного.
В двадцать минут первого автобус подошел к остановке «Универмаг». Отсюда уже пешком по домам, на Микитовку. Володя легонько подтолкнул друга. Сергей встрепенулся, глянул в окно.
Как всегда по ночам, свет из огромных окон универмага падал на площадку перед зданием, на тротуары, расходившиеся от нее. Освещена этим светом и остановка напротив универмага, от которой ведет дорога на Микитовку. Но сейчас Сергей ее не видел: заслоняли стоявшие в проходе люди.
От неожиданности удивленно вскинул брови: под витриной, уставленной обувью, стоял, пританцовывая, старшина Елышев. В шипели, как положено по форме, в ушанке. Как всегда, бодрый, самонадеянный. Посматривает в ожидании на автобус. Неужели ждет какую-то девицу в столь неурочный час? Значит, должна подъехать со стороны завода после вечерней смены? Но вроде бы остепенился сверхсрочник после той осенней драмы с негаданным появлением и смертью бывшего полицая Прокопа Сличко?
Нет, не в смерти этого полицая драма была. И даже не в том, что внутренние драмы терзали парней, Гришку Малыху, того же Елышева, да девушек, прежде всего дочерей Сличко, из которых только младшая Люба носила фамилию отца, остальные матери, Осмачко. Не драмой, трагедией явилось самоубийство Любы, жизнью расплатившейся за отцовы преступления. Не смогла, не захотела девчонка жить, не вынесла тяжести проклятой людьми фамилии.
Сергей бросил быстрый взгляд на Володю. Не мог, конечно, тот догадаться, о чем сейчас, увидев Елышева, успел подумать бригадир. Но Сергей знал, что все эти месяцы Володи в душе незаживающая рана: не утихает боль от потери невесты и нерожденного сына.
Автобус остановился, и плотная людская масса увлекла Чергинца и Бизяева на улицу, на тротуар, покрытый жидкой февральской грязью.
Елышев шарил по толпе цепким и острым взглядом. А Сергей незаметно покосился в его сторону. Снова удивился: старшина раздраженно сплюнул, что было ему несвойственно, и, решительно прошагав вдоль витрины, к углу универмага, исчез в темноте. Двинулся он, безусловно, по направлению к Красным казармам. Значит, на дежурстве. И, значит, отлучиться мог лишь в чрезвычайном случае.
Володя все же заметил, что Сергей заинтересованно поглядывает на противоположную сторону улицы, и тронул друга за плечо.
Сергей виновато улыбнулся.
— Спать хочу, как никогда, — предупредил он вопрос. — Буду спать до смены.
— А институт? — спросил Володя.
— Здоровье дороже, — усмехнулся Сергей.
— Чего это сегодня из ОТК расшумелись?
— Не на нас же.
— Но там что-то серьезное, да?
— Охота тебе голову забивать чужими грехами? Своих не расхлебать.
— Так ведь печь же наша?
— Нам с теми не по пути. Дутые рекорды ставить не собираюсь. И печь загубить не дам.
Микитовка встретила их кромешной темнотой. Как раз сегодня утром воевал Сергей с горэнерго, чтоб фонарей добавили. Обещать — обещали, но три года он ждать не будет, пусть не надеются.
— Я знаю, что не по пути, — задумчиво сказал Володя. — Они ведь о рекордах не для дела мечтают, для заработка. Так что правильно в ОТК шумят. Но сегодня что-то уж чересчур сильно. Надька Осмачко больше всех кричала.
— Такая у нее работа.
— Такая-то такая. Но никогда я не видел, чтобы она из-за работы так бесилась.