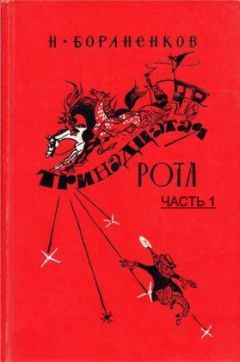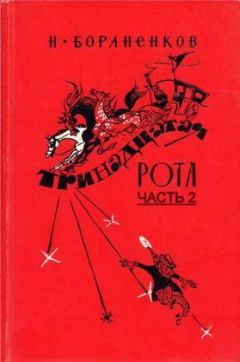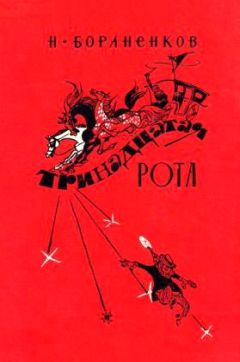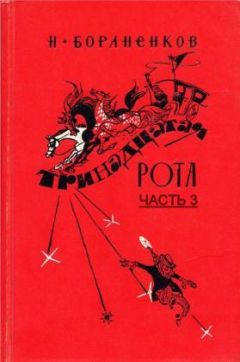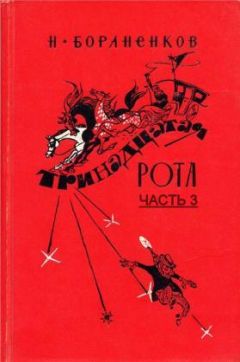— Итак, ее звать Матреной. А дальше? — спросил Гуляйбабка.
— А дальше… Дальше, кажись, забыл, запамятовал… Кошмар! Лапонька моя… Рухнуло все. Помню только кой-что, кой-какие слова. "От Речицы свертай левее, потом возьми правее"… Нет, кажись, опять левее, а там пройти не то Чагельники, не то Чапельники?.. Нет, все забыл. Все пропало. О, черт меня дернул за хлястик вылакать всю бутыль!
— То-то и оно — Чапельники, — встал с раскладного кресла Гуляйбабка. Чапельником бы вас, достопочтеннейший кучер, чтоб помнили наказ президента, который гласит: "Стальная дисциплина, дух запорожской сечи, серьезность к миссии БЕИПСА, завоевание доверия — и победа обеспечена". Вы же, сечь вас хвостом лошади, об этом забыли. А тот, кто забывает наказ отца, не достоин называться его сыном. То не сын, а как поют в «Комаринской», "рассукин сын"…
— Коль такой я ни богу свечка, ни черту кочерга, — сказал Прохор, — то ради бога, сделайте такое одолжение, отпустите меня на все четыре, и я потопаю.
— Безумству храбрых поем мы песню. И куда же соизволите потопать?
— Свет клином не сошелся. Знай я дорогу, та же Матрена теплей, чем попа на пасху, приняла б меня.
— До Матрены так же далеко, как моржу до тропиков, и чем дальше, тем горячей. Вы совсем не знаете законов "нового порядка". Господин Чистоквасенко, прочтите господину кучеру приказ рейхскомиссара Украины.
— Слушаюсь! — Чистоквасенко раскрыл свою папку и, отыскав в ней желтый листок, прочел: — "Смертная казнь ждет каждого, кто прямо или косвенно будет поддерживать саботажников, преступников или бежавших из плена; каждого, кто предоставит им убежище, накормит их или окажет другую помощь. Все имущество виновных будет конфисковано. Тот же, кто уведомит германские власти о саботажниках, преступниках или сбежавших из плена и тем самым поможет поймать или обезвредить их, получит тысячу рублей вознаграждения или участок земли".
Чистоквасенко захлопнул папку, поклонился. Гуляйбабка спросил у кучера:
— Вы поняли, чем может кончиться ваш уход к Матрене?
— Понял, сударь, но боюсь, что если рейхскомиссары будут раздавать по тысяче рублей за каждого бежавшего, то фюрер может остаться без штанов и ему не в чем будет принимать парад в Москве на Красной площади.
Гуляйбабка встал:
— Я лишаю вас слова, Прохор Силыч. Все свободны! Воловича, Трущобина, Цаплина прошу остаться для принятия решения. Нарушителя взять под стражу.
— Одну минутку, судари! — поднял руку Прохор. — Как вы знаете, даже на страшных судах обвиняемым дают последнее слово.
— Да, верно, — возвратился на прежнее место Гуляйбабка. — Такого права лишить вас мы не можем. Говорите!
— Милостивейшие судари, — начал Прохор, слегка поклонясь. — Вы хорошо тут говорили о чести, долге, наказе президента, о том и о сем. Видит бог, отвергнуть все это мог бы только глупый осел или лопоухий чудак. Но позвольте, судари, спросить вас об одном: имеет ли право кучер-бобыль отвлечься от адова лиха и уделить часок-другой своим сердечным делам? Я не смею упрекать вас, господин личный представитель президента, в этом столь грешном деле, ибо вы преисполнены высокого чувства долга, но, желая лишь спокойно умереть, я хотел бы знать только вот о чем. Состарились ли вы, сударь, или помолодели после того, как испили из рук прелестной женщины кувшин кваса и обменялись с ней при том любезными взглядами? Пострадало ли вверенное вам дело после нескольких часов, проведенных с этим милым существом, глянув на которое наверняка вздохнул бы и сам безгрешный пророк, или оно — ваше дело — пойдет теперь гораздо лучше, ибо незримый дух прекрасной женщины вдохновил вас? И не это ли прекрасное, названное словом «любовь», двигает вперед, делает жизнь из бесцветно-серой удивительно чудесной? И вот когда я услышу ответ на сии мои вопросы, верьте слову, могу спокойно положить голову на плаху и вы можете так же спокойно отнять ее от моего туловища, ибо на этой горькой стезе не я первый и не я последний.
Он перевел дух и так же возвышенно, но и спокойно, как и начал, продолжал:
— Что же касается бутылки с предательским зельем, то язык мой немеет, так как ее уже давно проклял сам сатана и если когда берет ее в руки, то лишь с одной целью — подсунуть ее своим лютым врагам. И еще мое к вам слово, судари. Вынося мне тяжкий приговор, ибо вина моя архипреступна, я просил бы учесть то обстоятельство, что я уже одно наказание понес, а именно: забыл, в какой деревне живет редкостная женщина, моя прелестная Матрена.
Последнее слово Прохора привело Гуляйбабку в великое удивление. Он никак не ожидал, что его простой с виду кучер обладает таким даром слова и так логически, философски рассуждает. Вчера, когда Прохор появился перед глазами невяжущим лыко, Гуляйбабка крепко обиделся на президента, подобравшего ему такого горе-кучера. Теперь же, после блестящей речи, эта обида растаяла, подобно дыму в ясный день, и от всего остался лишь горький осадок. Будь это в другое время, Гуляйбабка бы простил кучеру, но теперь шла война, а миссия, возложенная на него, была так ответственна, что о прощении не могло быть и речи.
— Ваше искреннее раскаивание и просьба о снисхождении, — сказал Гуляйбабка, — будут учтены, но на мягкость наказания — увы! — не надейтесь. Заваривший кашу да расхлебает ее. Или, во всяком случае, попробует, насколько он ее пересолил.
24. ВСТРЕЧА С НОВЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА МЕДАЛЬ БЕ
Мир полон случайностей. Мир тесен от неожиданных вещей. Живет человек тихо, спокойно, не ведая печали, и вдруг бес подсовывает ему такую встречу, что шапка летит с головы и рот превращается в большую букву О.
Только въехал Гуляйбабка в расположенное на пути тихое, сожженное дотла село, как на тебе — прямо наперерез карете чем-то всполошенный, перепуганный человек. ну ни дать ни взять — пан Гнида. Тот же дробненький росток, та же величиной с дыньку голова, те же коротенькие, коромыслом ножки. Вызывал сомнение только нос. Нос у Стефана Гниды из Горчаковцев был, как тупая толкушка, и размещался точно в подглазье. А у этого же Гниды нос хотя и смахивал на толкушку, но по какой-то неведомой причине имел большое смещение вправо. То ли его с таким носом мать родила, то ли по нему кто «съездил» в тот момент, когда хозяин к чему-то недозволенному принюхивался, да так и оставил его принюхиваться на всю жизнь. Словом, с носом бегущего к карете человека была загадка. Оставалось загадкой и появление здесь человека, столь похожего на Стефана Гниду.
Меж тем человек, удивительно похожий на Гниду, перебежал церковную площадь и, выскочив на улицу, по которой двигался обоз под флагом фюрера, широко раскинув руки, остановился. Тут уже не утерпел, выразил вслух свое удивление и кучер Прохор:
— Смотрите, сударь! Ан никак наш старый знакомый пан Гнида. Чую, быть какой-то беде.
— Бог еще не создал такого человека, которому бы сыпались только одни радости. Остановитесь.
— Слушаюсь, сударь, — ответил Прохор и натянул вожжи. Кони остановились. Предполагаемый Гнида подбежал к карете, упал на колени. Руки его, протянутые к Гуляйбабке, мелко тряслись.
— Ваше сиятельство! Господин хороший. Спасите! Помогите! — залепетал он, обливаясь слезами. — Не оставьте в беде человека, который верой и правдой служит новым властям. Вызвольте голову с плахи.
— Кто вы такой и почему ваша бесценная голова оказалась на плахе? спросил Гуляйбабка, свесив ноги и раскачивая носком ботинка перед носом жалкого просителя.
— Я голова здешнего местечка. Степан Гнида… Гнида Степан, — пояснил стоявший на коленях. — Может, слыхали? Обо мне статья была в "Свободной Волыни". Я первым в округе собрал налог за кошек и отправил всех девушек округи в Германию.
— Рад познакомиться с такой выдающейся личностью, — сунул руку в перчатке Гуляйбабка. — Но, позвольте, как вы здесь оказались? Мы же видели вас в Горчаковцах. И потом почему у вас свернут, гм-м… простите, смещен со своего места нос?
— Вы ошиблись, ваше сиятельство. Обознались. Я — это я, Степан Гнида. А там, в Горчаковцах, мой старший брат Стефан Гнида. Мой кровный братец. Вернее, был, но теперь, — Гнида-младший перекрестился, — теперь царство ему небесное, его нет.
— Ая-яй! — закачал головой Гуляйбабка. — Какое великое горе! Какая печальная весть! Но скажите же, Степан Гнида, что стряслось с вашим братом, почему вы поете за упокой?
— Погиб он. Убит ни за что. По глупой случайности. Не могу вспомнить. Кидает в дрожь, в жар. По ночам кошмары, виденья. Как сейчас вижу: на улице столы, столы… На столах выпивка, закуска. Господа офицеры пьют, едят. Брат Стефан лично с бутылью от стола к столу. "Господа! Господа офицеры! Извольте отведать того, откушать другого. Горилки, горилочки по стакашечке еще". А потом Стефан завел патефон, пластинку поднял над головой… "Господа! Господа! Ваш любимый маршик. Битте-дритте, маршик. Прошу!" И вот тут и случилось. Тут и пришел милому братцу конец. Офицер, тот, что сидел во главе стола, выхватил пистолет и с криком: "Швайн! Предатель!" — трижды выстрелил в брата. Упал и я. В обморок. А когда очнулся, не было ни господ офицеров, ни солдат. Патефон был разбит и растоптан, столы перевернуты вверх дном. А под столами Стефан. Мой милый Стефан. Две дырки в груди. Одна в голове, — Гнида-младший закрыл лицо руками и, содрогаясь, зарыдал.