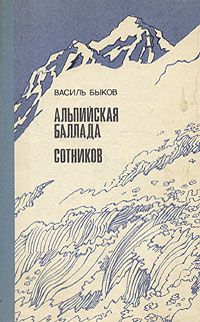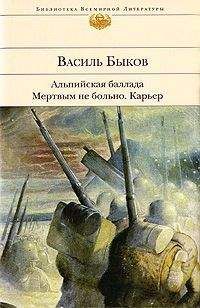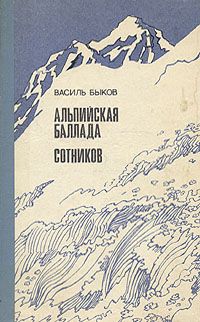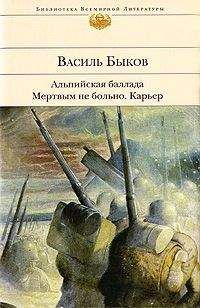— Иван, нон патрон аллес! Нон аллес![41]
Он понял, прикоснулся к ее худенькому плечу, желая тем самым успокоить девушку — два патрона он, конечно, оставит. Он ждал выстрелов в ответ, но немцы молчали, широкой цепью они тоже полезли в стланик. Тогда он вскочил и, пригибаясь, чтоб хоть немного прикрыться, заковылял вверх, к седловине над кручей.
Наверно, немцы все же допустили ошибку, когда, глядя на беглецов, тоже подались в стланик. Эти заросли не только задерживали движение, они мешали видеть противника, прицеливаться, и, пока эсэсовцы возились там, Иван с Джулией понемногу продвигались вверх. Ожидая выстрелов сзади, они наконец выскочили из стланика, задыхаясь, добежали до узенькой седловины и почти скатились по другой ее стороне. Отсюда Иван прежде всего окинул взглядом местность: с одной стороны под низко нависшими облаками поднимался такой же, как и сзади, крутой каменистый склон; прямо из-под ног уходил спуск в лощину, за которой начиналась новая невысокая горная складка. Там и сям над горами плыли белые, как овечьи стада, облака, а над ними сплошная завеса туч закрывала снежные вершины.
Едва они выбежали из седловины, Джулия, сложив на груди ладони, упала на колени, и губы ее быстро-быстро зашептали какие-то слова.
— Ты что? Быстрей! — крикнул он.
Она не ответила, прошептала еще несколько слов, и он, сильно хромая, побежал вниз. Она торопливо вскочила и быстро догнала его.
— Санта Мария поможет. Я просит очэн, очэн…
Он искренне удивился:
— Брось ты! Кто поможет!
Не зная, куда податься, и не в силах уже лезть вверх, они спустились наискосок по склону в лощину. Седловина с кручей пока еще защищала их от немцев. Бежать вниз было намного легче, тело, казалось, само неслось вперед, только от усталости подгибались колени. Иван все сильнее хромал. Джулия опережала его, но далеко не отбегала и часто оглядывалась. Очевидно, то, что они вырвались чуть не из-под самого носа немцев, вызвало у девушки неудержимый азарт. Задорно оглядываясь на Ивана, она лепетала с надеждой и радостью:
— Иванио, ми будет жит! Жит, Иванио! Я очэн хотель жит! Браво, вита![42]
«Ой, рано, рано радоваться!» — думал Иван, оглядываясь на бегу, и тотчас увидел на седловине первого эсэсовца. Он с трудом вылез из-за камней, высокий, в подтянутых бриджах. Мундир на нем был расстегнут, и на груди белела рубашка. Нет, он не спешил стрелять, хотя они были и не очень далеко от него и намного ниже. С полминуты он смотрел на них, стоя на месте, а потом крикнул что-то остальным, наверно подходившим к нему сзади, и захохотал. Смеялся он долго, что-то кричал вдогонку беглецам. Потом, вместо того чтобы бежать за ними, сел на камень и снял с головы пилотку.
Джулия подскочила к Ивану и затормошила его:
— Иванио, Иванио, смотри. Он благородий тэдэско! Он пустиль нас! Пустиль… Смотри!
Иван не мог понять, почему они не стреляли и не преследовали, почему они оставили их и все остановились на седловине. Один из них отошел в сторону и, размахивая автоматом, закричал:
— Шнеллер! Шнеллер! Ляуф шнеллер![43]
— Иванио, тэдэски пустиль нас! — на бегу с вдруг загоревшейся радостью лепетала Джулия. — Ми жит! Ми жит!
Иван молчал.
«Что за напасть? Что они надумали?» Все это действительно казалось ему странным. Но Иван был уверен, что это неспроста, что эсэсовцы не от доброты своей остановили погоню, они готовят что-то еще более худшее.
Но что?
Иван с Джулией добежали до самого дна лощины, сквозь рододендрон продрались на другую ее сторону — невысокий, пологий склон-взлобок — и обессиленно поплелись наверх. Выветрившийся песчаник и колючки низкорослой травы вконец искололи их ноги, но теперь они не ощущали жесткости земли. Джулия то убегала вперед, то возвращалась, оглядываясь на немцев. Радость ее все возрастала по мере того, как они отходили от седловины. Однако унылый, обеспокоенный вид Ивана в конце концов не мог не обратить на себя ее внимания.
— Иванио, почему фурьезо? Нега, да? — обеспокоенно спросила она.
— Не нога…
— Почему? Ми будем жит, Иванио, ми убегаль…
Кажется, он уже догадался, в чем было дело. Не отвечая ей, Иван торопливо ковылял по взлобку, который дальше круто загибался вниз. Он скрывал их от немцев, это было хорошо, но… Они выходили из-за пригорка, и тут Джулия, наверное также о чем-то догадавшись, вдруг остановилась. Горы впереди расступились, на пути беглецов необъятным простором засинел воздух — внизу лежало мрачное ущелье, из которого, клубясь, полз к небу туман.
С вдруг похолодевшими сердцами они молча добежали до обрыва и отшатнулись — склон круто падал в затуманенную бездну, в которой кое-где серели пятна нерастаявшего зимнего снега.
Джулия лежала на каменном карнизе в пяти шагах от обрыва и плакала. Он не успокаивал ее, не утешал — сидел рядом, опершись руками на замшелые камни, и думал, что, наверное, все уже кончилось. Впереди и сбоку к ним подступал обрыв, с другой стороны начинался крутой скалистый подъем под самые облака, сзади, в седловине, сидели немцы. Получилась самая отменная западня — надо же было попасть в такую! Для Джулии это было слишком внезапно и мучительно после вдруг вспыхнувшей надежды спастись, и он теперь не уговаривал ее — не находил для этого слов.
Из пропасти несло промозглой сыростью, их разгоряченные тела начали быстро остывать; вокруг в скалах, словно в гигантских трубах, выл, гудел ветер, было облачно и мрачно. Но почему немцы не идут, не стреляют, столпились вверху на седловине — одни сидят, другие стоят, обступив полосатую фигуру безумного? Иван всмотрелся и понял: они развлекались. Раскуривая, тыкали в гефтлинга сигаретами — в лоб, в шею, в спину, — и гефтлинг со связанными руками вьюном вертелся между ними, плевался, брыкался, а они ржали, обжигая его сигаретами.
— Руссэ! Рэттэн! Руссэ![44] — летел оттуда истошный крик сумасшедшего.
Иван насторожился — сволочи, что они еще выдумали там? Почему они такие безжалостно-бесчеловечные и к своим и к чужим — ко всем? Неужели это только от душевной низости, ради забавы?
Похоже было, немцы чего-то ждали, только чего? Возможно, какой-либо подмоги? Но теперь ничто уже не страшно. Теперь явная финита, как говорит Джулия. Четвертый его побег, видимо, станет последним. Жаль только вот это маленькое человеческое чудо — эту черноглазую говорунью, счастье с которой было таким хмельным и таким мимолетным. Хотя он и так был благодарен случаю, который послал ему эту девушку в самые последние и самые памятные часы его жизни. После всего, что случилось, как это ни странно, умирать рядом с ней было все же легче, чем в ненасытной печи крематория.
Джулия, кажется, выплакалась, плечи ее перестали вздрагивать, только изредка подергивались от холода. Он снял с себя тужурку и, потянувшись к девушке, бережно укрыл ее. Джулия встрепенулась, пересилила себя, села и запачканными, в ссадинах кулачками начала вытирать заплаканные глаза.
— Плехо, Иванио. Ой, ой, плехо!..
— Ничего, не бойся! Тут два патрона, — показал он на пистолет.
— Нон счастья Джулия. Фина вита,[45] Джулия, — в отчаянии говорила она.
Он неподвижно сидел на земле, неотрывно следя за немцами, и все внутри у него разрывалось от горя и беспомощности. Перед собственной совестью он чувствовал себя ответственным за ее судьбу. Только что он мог сделать? Если бы хоть немного доступнее был обрыв, а то проклятый, нависший над бездной карниз, за ним еще один, а дна так и не видно в мрачном тумане, даже не прослушивался шум потока. Опять же нога, разве можно удержаться на такой крутизне? И вот все это, собравшись одно к одному, определило их неизбежный конец.
— Руссэ! Рэттэн! Рэттэн! Руссэ! — слабо доносился из седловины голос безумного.
Джулия, увидев на седловине немцев, привстала на колени и вскинула маленькие свои кулачки:
— Фашисте! Бриганти! Своляч! Нэйман зи унс! Ну?[46]
На седловине примолкли, затихли, и ветер вскоре донес оттуда приглушенный расстоянием голос:
— Эй, рус унд гурен! Ми вас будет убиваль!..
И вслед второй:
— Ком плен! Бросай холодна гора. Шпацирен горяча крематориум!..
Лицо Джулии снова загорелось яростной злостью.
— Нейм! Нейм! — махала она кулачками. — Ком нейм унс! Нун, габен зи ангст?![47]
Немцы выслушали долетевшие до них сквозь ветер слова и один за другим начали выкрикивать непристойности. Джулия, злясь от невозможности ответить им в таком поединке, только кусала губы. Тогда Иван взял ее за плечи и прижал к себе. Девушка послушно припала к его груди и в безысходном отчаянии, как дитя, заплакала.
— Ну не надо! Не надо. Ничего, — неловко успокаивал он, едва подавляя в себе приступ злобного отчаяния.