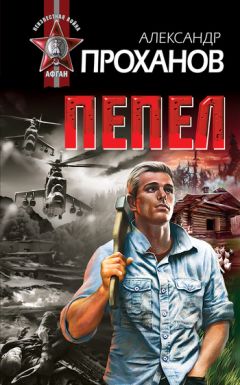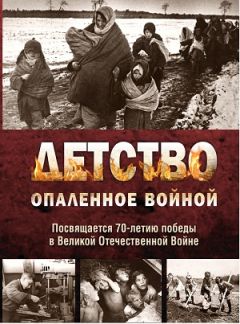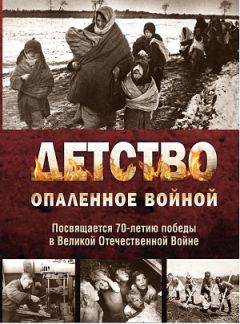– К сожалению, наша культура равнодушна к государственной идее. Не заботится о том, чтобы государству, достигшему новых высот, овладевшему новыми сущностями, дать новое имя. Чтобы оно, обретя это имя, могло развиваться дальше. Писатели увлекаются старой деревней или пишут о муках маленького городского человечка, клерка или чиновника. Быть может, вы, Петр, совершив свое погружение в природу, овладев основами народной жизни, вернетесь в цивилизацию и попытаетесь найти для нее новое имя.
У Суздальцева кружилась голова. Этот гениальный человек был кем-то послан в его тесную избушку, увлекал его на великие просторы, сулил ему восхитительное будущее.
– Мороз-то все крепче. Кур поморозит, гребни у них отпадут. Перенесу-ка я их в подпол, чтоб не околели. – Тетя Поля потянула за кольцо в половице, подняла тяжелую доску, из-под которой пахнуло холодной тьмой. – Ктой-то из вас спускайтесь в подпол, а я буду ему кур поднимать.
В подпол полез Скрынников, исчез в подземелье, снова появился на свет.
– Плюсовая температура!
Тетя Поля накинула шубейку, выскочила из избы. Снимала в сарае с насеста курицу, вносила ее в избу. Суздальцев принимал недвижную с мерцающим зрачком птицу, сжимая тугие крылья. Нес к подполу, протягивал Скрынникову, и тот, погружаясь во тьму, оставлял там курицу. Таким образом, все пять кур перекочевали с насеста в погреб. Последнего тетя Поля внесла петуха, с зеленой грудью и золотым хвостом, с огненным гребнем и драгоценно мерцающим глазом. Это была райская птица, которую Скрынников принял бережно, как волшебный сосуд. Не удержался, поцеловал в гребень и отнес в темноту, в центр земли, поместив петуха в сердцевину мирозданья.
Улеглись спать. Скрынников постелил на сеннике теплый, из гагачьего пуха, спальный мешок – должно быть, тот, что служил ему в эвенкийском стойбище. Запустил в спальник босоногую, тихо смеющуюся Шурочку, и Суздальцев из-за перегородки слышал, как они тихо смеялись, а потом Шурочка издала долгий, сладкий, умоляющий звук. И в ответ из подпола прокричал петух. Суздальцев подумал, что в новом устройстве мира, предложенном Скрынниковым, в центре земли сидит огненный, с красным гребнем петух, оглашает Вселенную ночным криком…
Командующий армии получил назначение в эту воюющую азиатскую страну, покинув сибирский тыловой гарнизон. В Сибири войска выходили на стрельбища, проводили учения с участием танков и авиации, готовились к отражению ракетно-ядерных ударов противника. Но никто из солдат, офицеров и генералов не участвовал в реальных боях. Не бывал под огнем. Не подрывался на минах. И он, уже немолодой генерал, ни разу не видел разорванное снарядом тело, не посылал солдат на смерть, не падал в траншею под грохот атакующего штурмовика. Теперь же он принял командование над воюющей армией, которая теряла солдат. Пушки и самолеты сносили с лица земли кишлаки и городские предместья.
Он принял дела от предшественника, проводив его на аэродром, откуда белоснежный лайнер унес того через хребет в родные края. Взгляд предшественника, который тот бросил на сменщика, был странно-сочувствующий, почти виноватый, будто он передавал другому незавершенную, неопрятную, не имеющую окончания работу.
Первые несколько недель командующий не покидал кабинет, чьи окна выходили на туманные тусклые горы и на близкий город, похожий на сухую клетчатую вафлю. Он изучал дела, знакомился с театром военных действий, исследовал проведенные операции и те, что еще предстояло совершить. Подолгу разговаривал с начальником штаба, с заместителями, стараясь с их слов усвоить особенности этой странной азиатской войны. Принимал у себя представителей местных властей. Наносил визиты в посольство. На приеме встречался с Президентом, чье долгоносое лицо почернело, стало похоже на черно-лиловый баклажан, выражало крайнюю усталость, а в фиолетовых глазах была тоска затравленного животного. Командующий работал над картами, читал донесения разведки, и перед началом армейской операции на юге страны, где предстояло разгромить крупное формирование мятежников, гнездящихся в хорошо укрепленных кишлаках, решил, наконец, выехать на передовую, чтобы увидеть воочию ту войну, ради которой он когда-то надел лейтенантский мундир.
Вертолет перенес его прямо от здания штаба в устье ущелья, где силы полка штурмовали укрепрайон неприятеля; войска несли потери, остановленные мощным пулеметным огнем.
Сойдя с вертолета, он был встречен командиром дивизии, который доложил обстановку, показал на карте расположение сил. Командующий не слишком внимательно разглядывал карту, а потом потребовал бэтээр, кратко приказав:
– На передовую.
Передовая являла собой часть ущелья, по дну которого протекала бурливая, зеленого цвета река. Вдоль реки, сдвинутая к самой воде горами, извивалась дорога. Противник взорвал часть скалы, камни завалили дорогу, и саперная машина, пытавшаяся прочистить проход, подорвалась на мине. Косо висела над рекой. Высокая крутая гора, испещренная осыпями, обращала склон к дороге. На склоне, на разных высотах чернели пещеры. Из пещер по наступавшим войскам работали крупнокалиберные пулеметы, не давая солдатам подняться. По пещерам, выходя на прямую наводку, стреляли танки, стремясь закупорить пещеры взрывами. Такова была картина боя, открывшаяся командующему.
– Сколько раненых? Сколько убитых? – спросил он у командира полка, запыленного, в камуфляже, подполковника.
– Два «двухсотых», три «трехсотых», – ответил подполковник, кивая на изгрызенную глиняную стену дувала, на которой был натянут брезентовый тент.
– Покажите.
Двое убитых лежали на соломе, головами к глинобитной стене. Оба были накрыты брезентовым чехлом. Из-под брезента выглядывали четыре ноги в разведенных стоптанных ботинках и две головы – одна белесая, стриженная наголо, другая черноволосая с коротким чубчиком. Лиц не было видно, одни только лбы, и на эти лбы со стены насыпались мелкие комочки сухой глины. Командующий смотрел на эти запорошенные глиняным прахом лбы, и ему хотелось стряхнуть этот сор. Вместо этого он машинально потер себе лоб, непроизвольно соотнося себя с этими двумя молодыми солдатами, чьих лиц он никогда не увидит.
– Как погибли? – спросил он командира полка.
– Саперы. Погибли при разминировании.
Пространство, в котором размещался полевой лазарет, еще недавно было хлевом. Кругом валялась солома, сухой коровий помет. Крышу снесло снарядом, ее заменял брезентовый тент, и под ним на соломе лежали трое раненых. Один был без сознания, над ним висел прозрачный пакет капельницы; трубка слабо пульсировала раствором, посылая в вену мерцающие капли. Другой, с перевязанной грудью и ржавым расплывшимся пятном, бредил. Вздрагивал грязным пупком, перекатывал со стороны на сторону голову, словно что-то непрерывно отрицал. И этот пробивший его насквозь стальной сердечник. И пыльные стреляющие горы. И этот хлев, где случилось ему оказаться. И командующего, наклонившего к нему коротко стриженную, с упрямым лбом и мясистым носом голову. Его крепкое сильное тело, упитанные мышцы, волевые губы, из которых может раздаться команда – и другие солдаты, легкие, подвижные, с худыми загорелыми лицами пойдут умирать под пулеметы.
Третий раненый был в сознании. Голый по пояс, с неловко забинтованным плечом, в которое косо угодил сердечник, с широкоскулым лицом, сплошь покрытым крохотными ранками и царапинами. Он смотрел из-под белесых ресниц на командующего, который наклонился к нему и спросил:
– Ну, как, сынок? Больно?
И парень, услышав это отцовское, полное сострадания «сынок», вдруг раскрыл дрожащие плачущие губы и ответил:
– Больно.
И вид этого некрасивого, плачущего, страдающего лица переполнил сердце командующего таким состраданием, чувством вины и беспомощностью, что он поспешил выйти из лазарета на солнце, боясь, что подчиненные увидят его минутную слабость.
Тут же, среди разрушенных взрывами стен стоял танк. Заправщик качал в бак горючее, рокотал и сотрясался резиновый шланг. Солдаты передавали танкистам в люк снаряды, цинки с пулеметными лентами. Командир танка, сутулый, коричневый от солнца, от пороховой гари, от танковых масел, стянув шлем, сидел на корточках у гусеничных траков. Командующий обратил внимание, что лобовая броня танка была утыкана стальными сердечниками, которые при попадании застревали в броне, не пробивая ее, топорщились, как щетина.
Из-за соседней горы, огибая склон, доносились редкие выстрелы танковой пушки.
Танкист при появлении командующего встал, приложил руку к ребристому шлему.
– Какая обстановка? – спросил командующий.
Танкист, не зная командующего в лицо, рассматривал его полевые зеленые генеральские погоны, еще не вылинявшие на солнце. При виде почтительных командиров полка и дивизии он постарался придать своему сиплому усталому голову бодрые интонации: