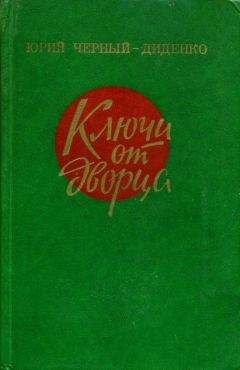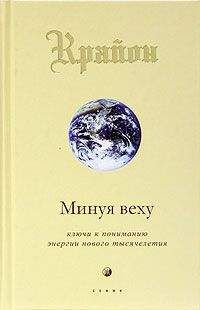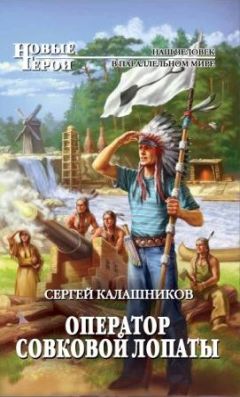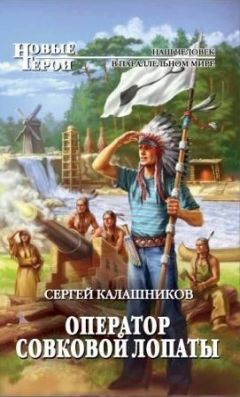…Рассветало, когда все трое вышли из Дворца. Лица захолодил жесткий северный ветер. До этого октябрь нет-нет да и баловал солнцем, переменчивым теплом Приазовья, чистым лазоревым небом, а сегодня день с самого начала хмуро насупился, казалось, что сизые тучи надолго приникли к крышам домов и оголенным верхушкам деревьев, и уже не преждевременный ли снег таило и несло в себе отяжеленное чрево туч? Земля крепко промерзла, между нею и косматой грядой, нависшей с неба, глухо перекатывались громы далекой канонады. Вчера ее не слышали — придвинулась за ночь. По проспекту разрозненно тянулись войска. Большинство красноармейцев налегке — утомленные, грязные — предпочли зябнуть в гимнастерках, чем тащиться в задубевших и отсыревших шинелях. Проехало несколько артиллерийских запряжек, на стволы орудий были нанизаны скатки. С лязгом прошла небольшая колонна танков. Двигались, не выбирая дороги, наезжая гусеницами на цветочные куртины, что тянулись вдоль проспекта. Но если бы они направлялись туда, откуда доносились громы; нет, миновали Дворец, свернули влево, загромыхали по мосту — на Енакиево…
Осташко, Федоров и Лембик расстались у Дома Советов, Лавр Семенович зажал под мышкой сверток с холстами и торопливо зашагал к себе на Комсомольскую, дав слово через час быть на станции. Лембик сказал, что ему надо встретиться с зятем.
Алексей поднялся на второй этаж, в горком. Двери всех комнат были раскрыты настежь, в комнатах — безлюдье, на столах ни единой бумажки, только пепельницы с окурками… И хотя точно так же здесь было и вчера, ничего не изменилось и не прибавилось, все-таки веяло какой-то новой, сгустившейся тревогой. В приемной Зенина, где посетители горкома привыкли видеть и слышать подвижную, словоохотливую Марочку, сидел, явно борясь с дремотой, молоденький рыжеватый сержант. Он предостерегающе вскочил при появлении Осташко и чуть не собрался задержать его, но не успел — Алексей открыл дверь кабинета…
Зенин разговаривал по телефону; возле аппарата сидел и как бы тоже участвовал в разговоре незнакомый тучный майор. Его фуражка лежала на столе, и он устало отирал платком запыленное, посеревшее лицо.
— Выводите людей из шахты! — кричал Зенин. — Да всех же, всех, повторяю! И машинистов водоотлива тоже. Чтобы к вечеру ни одного человека там не было! А дальше — дальше сам узнаешь… Будь только на месте.
Алексей, собравшийся было доложить о выполненном поручении, понял, что теперь это ни к чему.
Секретарь опустил на рычажок трубку и, посмотрев на Осташко, произнес одеревенелым голосом:
— Вот так, Алексей!..
А потом поднял трубку майор и кинул в мембрану всего два слова:
— Воловик? Переключайся…
Он вынул из кармана галифе аккуратный красивый ножичек, обрезал телефонный шнур и встал:
— Ну, а теперь в штаб… на полевую связь.
И после этой ночи время помчалось, завертелось шальным, безудержным, слетевшим с оси колесом. Потом, много позже, Алексей так и не мог толком вспомнить, сколько же суток — трое? пять? семь? — прошло с той минуты, когда незнакомый военный обрезал провод горкома, до прощального свистка паровоза, увозившего из Нагоровки последний эшелон. Все эти несколько суток слились в одни — бессонные, изнуряющие, хотя еще работал городской радиоузел и динамики пока доносили из Москвы бой часов на Спасской башне и сводки Совинформбюро — утренние, вечерние. Но оттого, что вести накатывались одинаково безотрадные, тяжелые, сводки, казалось, сливались в одну — понурую, тягостную…
С рассветом Осташко уезжал в Железнянскую степь, где силами самих нагоровцев подготавливался полевой аэродром, но потом надобность в нем отпала.
Вышло еще несколько номеров городской газеты. За эти военные месяцы уже дважды уменьшался ее формат, и сейчас она была размером с листовку, которую выпускал оставшийся за редактора — того призвали в армию сразу же, 22 июня, — секретарь редакции Сорокин. Он прибегал в горком, негодуя то на почту, которая не забирает тираж, то на электростанцию, с перебоями подающую ток в типографию. А теперь, выпустив последний номер, Сорокин разыскал и перехватил Осташко при выходе из школы, где на казарменном положении разместились немногие оставшиеся горкомовцы. Волнуясь, он стал выкладывать свою, как считал, самую большую беду.
— Помоги, Осташко… Что делать с ротацией? Надо решать… Заводские станки погрузили, отправили, а она разве дешевле?
Длинновязый, исхудавший, с глазами, в которых лихорадочно металась неутраченная надежда. Но чем можно было ему помочь?
— Не сумел вывезти раньше — что же теперь о ней говорить?
— Раньше? — взъярился Сорокин. — Раньше ты же сам требовал в срок выпускать газету во что бы то ни стало… А сейчас, выходит, Геббельсу такую машину подарим?
Алексею пришлось однажды видеть в работе эту саженной высоты махину, из-под стальных барабанов которой вылетали газеты. Двадцать тысяч в час!.. Стало и впрямь жалко…
— А ты управишься ее разобрать?
— Если два-три хороших мастера — то за один день.
— А у тебя они есть?
— Ни одного… Надо вызвать из области…
— Так что же ты мне голову морочишь? — разозлился Осташко. — Области теперь только и всех хлопот, что твоя ротация? Ею теперь займется истребительный батальон. Немцам она не достанется…
— Истребительный? — в ужасе снизил голос до шепота Сорокин. — Рыбинской ротацией? Двухрольной? Ты спятил?
— А как ты думал? При вынужденном отходе… — Осташко хотел было напомнить Сорокину июльское выступление Сталина, но не договорил, оборвал: — Сам же все печатал… Растолковывать тебе? Ступай к черту… Хотя постой… Ты пишущие машинки отдал тому человеку, что я посылал?
Сорокин, поднимаясь на крыльцо, очевидно, для того, чтобы обратиться еще и к Зенину, неопределенно махнул рукой. Жест отчаяния? Что, мол, спрашиваешь о пишущих машинках, когда гибнет ротация? Но той Нагоровке, которая смотрела на них распахнутыми окнами опустевшего Дома Советов и дымилась штабелями невывезенного угля и кострами сжигаемых, дотлевавших архивов, как раз незамысловатая пишущая машинка становилась теперь дороже, чем ротация, обрекаемая на слом. Правда, Алексей не знал даже фамилии посланного им к Сорокину человека… Позвонили, приказали встретить, распорядиться.
— Так отдал, я спрашиваю?
— Да отдал, отдал обе… Что, я из них стрелять по гитлеровцам буду?
Алексей спешил в Покровское. Там, в излюбленном месте летнего отдыха нагоровцев — у лесного озера, вечерний шахтерский профилакторий, детдом… Профилакторий закрыли еще в июне, детишек эвакуировали неделю назад. Но стало известно, что из-за поломки автомашины какая-то группа вернулась. Зенин послал Алексея выяснить, помочь. Раньше в Покровское ездили трамваем. Сходили у поселка восьмой шахты, а потом полчаса по степи — приятная прогулка. Но трамваи остановили еще три дня назад. Алексей стоял на перекрестке около террикона, надеясь на какую-нибудь попутную гражданскую машину. Однако проезжали только военные — с грузами, с ранеными… Остановить их не решался. Он уже собрался идти пешком, когда одна из военных полуторок с прицепленной к ней зениткой подкатила к нему сама. Высунувшись из кабины, лейтенант спрашивал дорогу на Покровское. Эта машина подвезла его, правда, после того, как он показал свои документы, объяснил срочность и неотложность поездки.
На опушке покровского леса стояла зенитная батарея. Лейтенант, выпрыгнув из кабины, сразу забыл о попутчике. Алексей направился в глубь осеннего, уже сбросившего листву леса, к озеру.
Часом позже, выводя притихших, ошеломленных детишек на большак, по которому продолжали двигаться войска, Алексей услышал частые, опережающие друг друга выстрелы орудий. Однако небо осталось чистым, никто из проходивших красноармейцев даже не поднял головы.
Детишки скучились у шоссе.
— Куда ты их собрала? — притормаживая большую, крытую брезентом машину, крикнул воспитательнице стариковатый, с мучнистыми бровями и ресницами водитель. Она — молоденькая, растерянная — вопрошающе посмотрела на Осташко.
— В Ворошиловград бы их подвезти, — подскочил к машине Алексей. — Отбились, отстали от своих, выручи, товарищ…
— Открывай борт, грузи, — подумал и приказал, словно пересилив минутное колебание, шофер.
Алексей вернулся в штаб вечером. Прошел к буфету. Дверь распахнута, продавщицы давно нет. На столиках буханки зачерствелого хлеба, пачка соли, в углу корзины с помидорами. Выбрал один, съел и, не в силах совладать с дремотой, опустил голову на руки. «Четверть часа, — разрешил он сам себе, — всего четверть часа». Но когда спохватился и посмотрел на часы, то оказалось, что спал всего пять минут…
И еще, еще одну ночь не желало лечь плашмя, замереть сорвавшееся с оси колесо. Над железнодорожным узлом беззвучно искрились, пропадали и снова блестели, переливались разрывы зениток. У коновязи за Домом Советов, где иной раз до полуночи поджидали, когда кончится бюро горкома, пролетки заведующих шахтами, сейчас беспокойно ржали лошади какой-то кавалерийской части. Вскоре их копыта процокали по огибавшей школу брусчатой мостовой, и наступила полная тишина, та гнетущая, скрытая тишина, что так сдавливает сердце и томит в канун грозы. А потом с запада, Железнянской степью, накатилось эхо взрывов, и вдоль невидимого горизонта надолго протянулся багряный лампас зарева. Это соседи нагоровцев начали подрывать надшахтные здания, стволы, копры. Когда послышались перекаты этих взрывов, Осташко, поднимавшийся на крыльцо штаба, едва не выпустил из рук аварийный радиоприемник, который он взял в уже замолкнувшем радиоузле. Неужели теперь подошла очередь Нагоровки? После третьего июля он, работник горкома, множество раз повторял, напоминал и другим и самому себе услышанную тогда тяжкую, суровую правду…