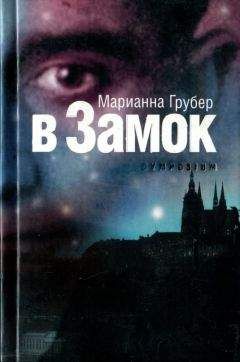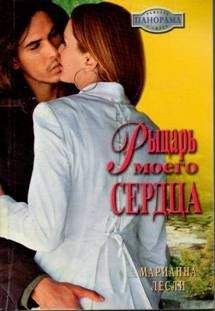— Когда? — спросил Иво.
— Четыре дня назад, — ответила Ага. У нее руки были в саже, щеки — в саже, и на волосах — пепел.
— Кто?
— Все мы, — думаю.
Она засеменила ему вслед, на ходу распахнула еще не сгоревшую дверь, висевшую на одной петле.
— Мы молчали. Как зайцы, прижимали уши. И научились хохотать над каждым, кто умирает.
Раньше Ага была повитухой, помогала почти всем роженицам в деревне. После того как армия Гитлера вступила в Австрию, она закрылась у себя в доме и указала на порог ортсгруппенляйтеру, когда тот спросил, не хочет ли она вступить в партию. В деревне появилась новая повитуха, но пробыла недолго, никто не хотел ее помощи.
— Мы не могли знать, — сказал Иво, — ведь сначала так не было. Он, однако, понимал, что они могли всё это знать. Ага рассмеялась. В смехе звучала горечь.
— На неправде нет никаких знаков, да? Смотришь, а она уже здесь. Это они там, в городе, верят всему, что им говорят. А мы должны были почуять нашими крестьянскими носами. Вонь от неправды ее опережает.
Иво вошел в лес, и, передохнув, поднялся на пригорок, откуда вдали видна была Венгрия, пуста[4] и небо. Там он последний раз был с Сильвой. Потом он спустился в деревню и стал напиваться в трактире. Подошел ортсгруппенляйтер, расспрашивал Иво, давно ли он приехал, получил ли снова орден и как случилось с ногой. Немного погодя он спросил, как, по мнению Иво, пойдет дело дальше.
— Зима всех зверски измучила, — ответил Иво.
— Дед Мороз, да? Русские еще сильнее будут мерзнуть, у них — никаких идеалов, не то что у нас. Идеалы согревают.
Он подсел к Иво за стол. Иво подумал, что надо бы его послать к черту, но промолчал.
— К фронту ты, пожалуй, непригоден, — сказал ортсгруппенляйтер.
Иво кивнул.
— Но можно послужить фатерланду и не на фронте. Есть много всякой работы, кто-то же должен ее делать.
Иво молчал, ортсгруппенляйтер объяснял молчание Иво ранением и пьянством. Когда они дошли до трех литров, и Иво почувствовал, как тяжесть вина, соскальзывая с языка, забирается ему в ноги и в тело, а голова постепенно опустошается и задурманивается, к ним подошел старый крестьянин и спросил про русских. У него сын пропал без вести в Сталинграде. Вслед за ним еще один спросил сначала о русских солдатах, затем — о женщинах. И Иво рассказал о девушках, которые приходили к солдатам в расположение роты, хотя это было запрещено. Как солдаты подменяли друг друга в караулах, чтобы девушек не заметили. Еще описал, как его ранило, но прежде упомянул случай, из-за которого его наградили второй раз.
— Да-да, — вмешался ортсгруппенляйтер, — война — это место для полноценных мужчин. Здесь он, смутившись, осекся, потому что Иво больше полноценным мужчиной не был, по крайней мере, полноценным солдатом.
— Почему бы вам не пойти вахманом в какой-нибудь лагерь, — посоветовал он, — стрелять, на худой конец, вы сможете. Руки целы, правда же?
— Ну да, — сказал Иво и сжал кулаки. Около полуночи он вышел из трактира и направился к дому. Домашние уже спали, Иво постучал в окно спальни. Когда и повторный стук никого не разбудил, он залез на сеновал над хлевом, там слышно было, как шуршали соломой коровы, к нему наверх поднималось тепло от их тел. Холод по дороге к дому его протрезвил, и голова больше не была пустой. Все время, пока не заснул, Иво думал, что, если он станет вахманом в лагере, можно будет поискать Сильву; он — дурак, если верит, что это удается, но нужно попробовать и хотя бы помочь бежать каким-нибудь ее сородичам. Чтобы они выжили, наперекор желанию их истребить. Хотят уничтожить — пусть живут, хотят извести — пусть вернутся. И если стараются, чтоб следа не осталось, — пусть свой след отпечатают на лбу мира. Пусть умножатся — раз их хотят искоренить. И думал он, что не хотел бы здесь жить, но живет, это — его родина, и все здешние такие, как он, а он такой, как они.
Иво до конца года, а затем весну следующего пробыл переводчиком. Он хорошо говорил по-венгерски и сносно на чешском, его гоняли по всему краю. За это время он познакомился с врачом, который, если ему передать привет от тети Эммы и добавить, что она чудесная женщина, выписывал молодым парням освобождение от армии и ничего за это не брал, кроме шнапса. Для некоего человека, называвшего себя Францем, Иво выносил из канцелярий служебные бланки и дважды штемпели. Это давало возможность выписывать отпускные документы и помогать таким способом людям бежать. Он запоминал места, где были спрятаны консервы и одеяла, чтобы бежавшие не умерли от голода и не замерзли. В мае Иво поступил вахманом в Аушвиц. Венгрию в начале марта оккупировали немецкие войска, теперь день и ночь в лагерь катили товарные вагоны. Когда Иво прибыл в лагерь, уничтожение шло полным ходом, до конца года нужно было умертвить 700 тысяч евреев. Иво понял, что сопротивляться этому едва ли имело смысл. Сделать ничего нельзя, разве что поменьше избивать и не наступать потом на лежащего. На утренней перекличке, когда он впервые увидел эту массу истерзанных, изломанных тел, его вывернуло, и вместо него поставили другого. Утро выдалось светлое, сверкающее солнце обводило четкими контурами происходящее. Несколько облаков на небе были островами, на которых души мертвых грезили о иной жизни в иных краях, пока вопли под ними нарастали и напоследок глохли, как это давно оглохшее пространство. В полдень Иво отправил два письма: одно — домашним, другое — старой Аге. Оба письма совпадали почти дословно: «Нужно делать, что возможно, даже если ты больше не видишь смысла в этих действиях. Дай Бог, чтобы запомнили о нас в конце концов не только то, что происходит сейчас». Потом он сварил из табака и кое-каких снадобий питье, после принятия которого повышалась температура тела. В медчасти, куда Иво поместили, он попытался уяснить для себя общую картину расположения лагеря. Побег был возможен только через прачечную. Выйдя из медчасти, Иво стал подыскивать себе связанную с прачечной работу. К середине июля он уже не сомневался, что сумеет трех-четырех заключенных доставить за территорию лагеря, запаковав их в бельевые мешки. Он раздобыл гражданскую одежду и спрятал ее в леске поблизости, где можно было укрыться днем, чтобы ночью пробираться дальше. К началу августа все было готово. Ему к тому времени исполнилось двадцать четыре года, и дожить до двадцать пятого дня рождения представлялось маловероятным. За плечами у него было восемь классов сельской школы и три с половиной года войны. Он имел двух братьев и трех сестер, и в его солдатской книжке значилось немецкое имя Ханс, соответствующее его имени — Иво.
Во вторую неделю августа он выбрал четырех заключенных — они ему показались еще достаточно крепкими, способными вынести побег — и снабдил их сведениями об окрестностях лагеря и о предполагаемых дальнейших маршрутах. Трех женщин и одного мужчину он в третью неделю августа вывез из лагеря, одну из женщин звали Илона, она была цыганка. В июле 1945-го она добралась до деревни, где жил Иво, хотела его разыскать. Война закончилась, солдатские окопы и воронки от снарядов зарастали травой, на полях работали люди. В доме у Иво Илона увидела на стене его фотографию, обвитую черным крепом, на ней он, четырнадцатилетний, выглядел слегка строптивым и очень смущенным подростком. Илону приняли за нищенку, дали ей немного молока и хлеба, и выставили за дверь. Илона ушла раздраженной, ничего не сказав об Иво. Она отыскала бывшее цыганское селенье. Развалившиеся дома все еще оставались пустыми. Потом нашла старую Агу. Та как раз собралась белить кухню, когда пришла Илона, чтобы исполнить обещание, данное Иво на случай, если ей повезет, а ему нет. Она должна была разузнать о Сильве и Пьере и рассказать про Иво его домашним. Она рассказала о нем старой Аге.
Спустя годы я снова приехала в деревню: меня, городского ребенка, туда отправили одолевать послевоенное недоедание и туберкулез. В жаркий августовский день старая Ага мне рассказала историю Иво. Почти слепая, еле переставлявшая ноги, она теперь больше жила в своих воспоминаниях и повествовала о времени, отдаленном от меня и чужом, словно Пунические войны.
А Пьера война пощадила. Но Сильва и вся ее семья не возвратились. В цыганском селении снова жили люди. Так и осталось неизвестным, как погиб Иво. В извещении о его смерти стояло: «Пал в боях за фюрера, народ и фатерланд».
— Они его расстреляли, — сказала Ага, — и хорошо, если только расстреляли. Она показала мне письмо Иво. Непривыкшая писать рука, почерк школьника, уже трудно было разобрать слова. На оборотной стороне надорванного листка в линейку приписка: «Скажи им: они должны выжить».
Руководитель местной организации национал-социалистической партии в Третьем рейхе. (Здесь и далее — прим. перев.)