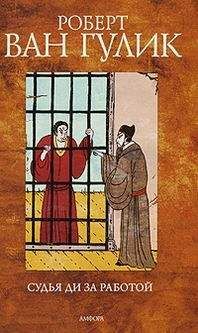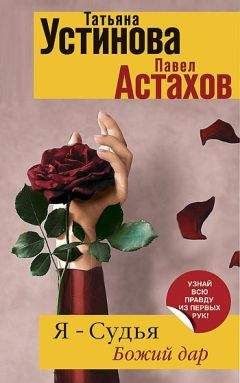– Воды! Еще! Еще!
Зубы его стучали, а ему казалось, что это дрожит и трясется под потолком электрическая лампочка. Керосиновая лампа в землянке или электрическая? Стука собственных зубов он не слышал, только видел колеблющийся свет лампы.
«Где я нахожусь? Откуда собаки? Где собаки? Собак нет, а лампа дрожит. Откуда лампа? Пустое облако и в нем лампа! Моторы, это же моторы! Как я неосторожен. Бомбы! Самолеты!»
– Помрет!
– Не помрет, не бойся.
«Кто умрет? Может, я умер… не смерть, и не сон! – немного прояснилось у него в голове. – Я в плену. Меня… стрельба… меня душили и вязали… я связан и неподвижен!» – хватался он за обрывки сознания.
– Я лично схватил Дражу Михайловича! Весь мир дивится мне… Эх, мать моя женщина, просто сам себе не верю. Горский Царь, Сербский Батька, Балканский Орел, первый партизан Европы, герой Америки и Франции, славный Генерал… миф, чудо, легенда! А вот, однако ж, я тебя уделал, я тебя схватил. Я, Слободан Пенезич-Крцун, генерал товарищей Тито и Сталина. Я, министр безопасности, министр НКВД, министр МГБ, министр всего на свете!
«Сталин! Америка и Комитет безопасности! Я плохо вижу и плохо понимаю, что говорят… Боже, как же холодно… В лесу, на поляне… тут они меня и связали! Вылетело что-то из кустов, потом началась стрельба. От них пахло йодом. И от веревки пахло йодом. Руки у них холеные, но сильные. Почему я так дрожу? Почему мне холодно? Я же в шинели. Нет, шинель осталась на спинке стула. А майор Василиевич? Николу убили, и Богдана тоже, и Бане… Бане улыбнулся, стиснув зубы, как мой Войислав, только ему было некому сжать руку, и он схватился за ветку… Опять что-то вылетело из куста… Они не стреляют, смеются. За воротники у них стекает ракия, запах йода становится все сильнее. Они пьют и за веревку. И поливают ее ракией! Что это он говорит? Сталин! НКВД! Америка! Кто он такой?»
– Пока ты был в лесах, мы спокойно спать не могли. Жили в постоянном страхе, как бы ты откуда-нибудь не нагрянул, не поднял голодную деревенскую Сербию, как тебе удалось это в сорок первом… Ты и твои четники повсюду виделись мне среди бела дня. Дунет ветер, шевельнется тень от листьев, я вздрагиваю: это он, Дража, со своими!
«Одеяло… вот бы сейчас одеяло. И чтобы развязали. Руки – это понятно, но зачем же и ноги, и все тело?… Наверное, я ранен и лежу на носилках! Они провисшие, растянутые, спина проваливается. Растянулись от раненых. Но куда они меня опускают, где я и почему так страшно холодно? Кто боится моей тени? Сейчас не сорок первый… мы… сумасшедший Василиевич, война закончилась… не Василиевич, а Калабич… но они мертвы, а я ранен и в плену!»
– Кто вы такой? – спросил он, обращаясь к стоявшему над ним силуэту.
– Я – Бог! Я – все и вся! Знаешь ли ты, что депешу о твоей поимке я послал самому товарищу Сталину? Эх, поглядеть бы, как Сталин ее читает, а внизу подпись его генерала Крцуна!
«Какой-то русский! Значит, это они меня взяли в плен! Они, они! У наших для такого кишка тонка… И так хорошо говорит по-нашему… Русские, братья русские! – вздохнул и закашлялся он. – Помогали нам только для того, чтобы их предательство потом было больнее пережить. Русский для серба то же самое, что и англичанин, только без фрака и без красивых фраз. Не могу его рассмотреть как следует… где же мои очки?» – забыв, что лишен возможности двигаться, он попытался поднять руку.
– Только с тринадцатого марта начинается коммунизм. Только с сегодняшнего дня мы начинаем строить светлое советское завтра. Нет тебя больше, генерал. Нет и нашего страха. Теперь мы можем делать все, что хотим… Трумэн, де Голль, Черчилль, король… да все они вместе пусть катятся к растакой матери. Ты был для нас единственным препятствием, тебя одного мы боялись… Этой ночью ты мне заплатишь за все! За моих убитых братьев и товарищей. За Момчилу Смилянича, за доктора Ацу, за Жику Корчагина, за Милицу, за Синишу, за Максима, за Стеву Филипповича, за Горана Ковачевича… за Муйю Русского, за сербов, за братьев хорватов, за мусульман… заплатишь, бандит, за всех!
«Он ненормальный, сам не понимает, что говорит. Я убил Корчагина? Моя Гордана… она была влюблена в Павла Корчагина. Гоца в него, Бранко в Тоню, а Войислав над ними смеялся. И этот Муйа Русский… не может быть, чтобы он был русским, а я его не знал… Я – убил?… Я никого не убивал! Никогда!.. Из всех, кого он назвал, я знаю только поручика Смилянича, но поручик Смилянич… его убили партизаны… он ушел из партизан, а они его за это выдали немцам… Какая Милица?… Ненормальный русский! Да за меня было больше мусульман и хорватов, чем за Тито!»
– Мангал! – выкрикнул Крцун. – И оденьте ему очки, чтобы хорошо все рассмотрел.
На оголенный живот осторожно опустили какую-то странную посудину. У нее были массивные ручки, как у кастрюли для варки повидла, но вместо дна – металлическая сетка, так что она напоминала решето. Через ручки они просунули веревку, приподняли один край крышки и забросили внутрь, вверх животом, какого-то серого зверька, а потом быстро, в тишине, впервые в полной тишине, затянули веревку.
Сбитый с толку всем происходящим, которое он никак не мог связать в одно логичное целое и поместить в определенное время и которое уж тем более не мог разгадать и вырвать из паутины бреда или сна, Дража с облегчением, даже с радостью, подумал, что у него на животе оказался заяц, и теперь рядом с ним есть что-то живое, что он видит и узнает и что поможет ему связать воедино все то, что происходило раньше. На его лице появилась улыбка.
Зверек некоторое время стоял неподвижно на месте, а когда Дража, уверенный, что находится где-то посреди луга на Сувоборе или на Райце, напряг мышцы, продолжая думать, что ему на живот вскочил заяц, тот, начал бегать по кругу.
– Ну-ка, пусть крысеныш угостится крысой! – услышал он громкий и внятный голос Крцуна, и эти звуки на одно мгновение, но отчетливо и ясно представили сознанию Дражи реальную действительность, которая тут же исчезла снова, как будто спугнутая раздавшимися криками.
Генерал ОЗНы,[5] генерал МГБ, генерал НКВД, генерал всего на свете, генерал Сталина и генерал Тито, а сейчас просто истопник, сыпя ругательствами и отстраняя лицо от стрелявших искр, помешивал каминными щипцами раскаленные угли в металлической печке.
– И у усташей,[6] – сказал он, – есть чему поучиться.
Вскоре после этого один из солдат, дергаясь в стороны от разлетавшихся искр, начал переносить горящие угли из печки в металлическую корзину на животе Дражи.
– О-о-о! Не надо… Прошу вас… Стойте… Не надо… О-о-о!
Жар раскаленных углей разъярил крысу, и она с писком сначала начала прогрызать кожу, нервно дергая хвостом, а потом, поджав его и переместив тяжесть всего тела на передние лапы, стала вгрызаться в тело.
– Этот кусочек за Трумэна… этот за де Голля… этот за короля… этот за англичан… А этот кусочек за мою душу! – приговаривал Крцун.
– О-о-о! Ма-а-а-ма! – перед его глазами из живота сочилась кровь, а крики разносились далеко за пределы камеры.
Рыча от боли, он смотрел на окровавленные когти и морду животного, которое пыталось в его утробе найти спасение от жара углей. Смотрел на куски собственной кожи, свисающие из пасти, когда крыса приподнимала передние лапы и пищала. Смотрел на влажную, слипшуюся шерсть, которая на глазах из серой превращалась в ярко-красную. Смотрел на окровавленный крысиный хвост.
– Прошу вас, перестаньте. Уберите!
Вскоре, однако, ткани омертвели, спеклись под углями, и боль чувствовалась все меньше и меньше. Недавний озноб сменился непереносимым жаром и потребностью в воде, снеге, льде. Лед! Лед! Он дышал все чаще и чаще и сквозь пот и бред сознавал, что напрасно просить о милости и что спасение только в смерти, и пусть она настанет как можно скорее.
– Звери! Бандиты! – вскрикивал он все тише и все прерывистей. – Нелюди! Чудовища!
На этот раз тонул он долго и чувствовал, что бессвязные мысли и удивительные образы, которые ему являлись, были похожи на разветвленную плеть ползучего растения или на корень, обнаружившийся на срезе земли, и это помогало ему замедлять погружение в темную глубину…
Женщина выныривает из бочки с водой, ее тело облеплено платьем, она протягивает к нему руки, а он никак не может их схватить… медведь в горящем шалаше, сложенном из веток… будет и на вас месть и наказание… солнце погружается в реку… у пчел вместо лапок когти, которыми они раздирают лошадь, а лошадь вся в пене от долгого галопа… офицерский бал… кадриль… отблески канделябров в брошке… никакой ты не министр и не генерал, а просто негодяй… на острие сабли капля молока… сыновья будут стыдиться вас, внуки раскопают ваши могилы… вот лед, Гоца, детка моя… не стреляйте, там же есть и гражданские… вверх по церковной колокольне ползет барсук, шерсть его стоит дыбом, она позолочена и мерцает, как украшения на рождественских подарках… это не люди, в них нет ничего человеческого, это зверье… перебить, всех их перебить… горит поле пшеницы, дым валит из скирды, и метет снег… какой-то мальчик с обгоревшей и поломанной свирелью зовет на помощь «ма-а-а-ма-а-а»… стреляет орудие, но выстрела не слышно… дети с огромными волосатыми ножищами играют в футбол, но не мячом, а ежом… из полевого телефона слышно завывание сирены… никто, братья мои, не обязан оставаться, потому что понятие чести не подчиняется командам и приказам… кошачьи кишки на обеденном столе… вам не пуля суждена, а муки… рассыпается в небе осветительная ракета, небо горит, дымится самолет… парашютист падает стремительно… вальс, кто это танцует и летит, летит, летит в глубину, в свет, в небо, в звезды, в ночь, во мрак, в пустоту…