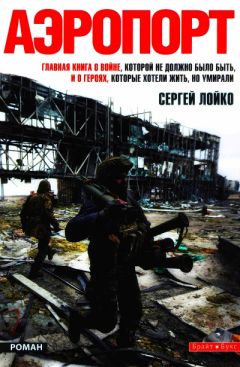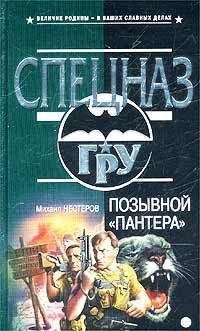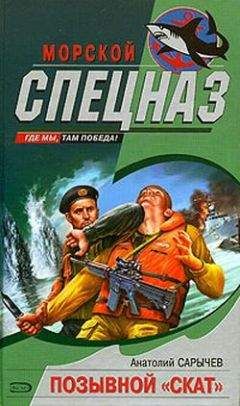Использовать живительную влагу для умывания и тем более мытья рук считалось преступным роскошеством. Для этого существовали влажные салфетки, которыми снабжали армию гражданские активисты или волонтеры, беззаветно обеспечивающие фронт всем необходимым — от туалетной бумаги до боевой экипировки и оружия.
Понять, чем во время боевых действий, застенчиво именуемых высшим командованием ATO, или Антитеррористической операцией, занимались штатные снабженцы Министерств обороны и внутренних дел, подчас не представлялось возможным.
Бойцы не так смеялись над затасканной шуткой командира, как просто по-детски радовались тому, что сами все еще живы. Что очередной, четвертый за день, штурм провалился и сепары, русские и чеченцы из сборной солянки кремлевского воинства отступили. Что не знамо, какой за день, артиллерийский, ракетный или минометный обстрел прекратился. И что можно было вот так спокойно посидеть за столом, согревая руки о кружку с чаем и кофе, ковыряясь ножом в банках перловки в поисках тушенки...
— Юрка, расскажи еще раз про каску, — попросил один из бойцов, когда смех затих.
Юрка, молодой парень, до войны ремонтник-железнодорожник из соседнего Днепропетровска, с позывным «Паровоз», с готовностью и с неизменно добавляющимися от пересказа к пересказу новыми подробностями начал свой рассказ. Сидел он как‑то в глубокой воронке, далеко, почти у сепарских позиций, корректируя огонь. И тут в воронку к нему сваливается будто с неба «очумевший сепар».
Если отсеять из отчета Паровоза о «ратном подвиге» излишние непечатные междометия, то в киносценарии этот монолог почти дословно звучал так:
— Значит, плюхается сепар прямо мне на ноги. С автоматом в руке, в бронике новеньком, но без каски, в шапочке такой спортивной на глаза почти, по ходу. Я разворачиваюсь, навожу на него пулемет.
Пулеметчик Юрка, физически одаренный не хуже братьев Кличко, даже во время разведки или корректировки огня никогда не расставался со своим ручным ПКМ[4] калибра 7,62. Будто боялся, что украдут. Все над ним по этому поводу подсмеивались.
— Он прибалдел, не поверил, что я укроп. Думает, по ходу, я, по ходу, свой, буржуинский, по ходу. Они корректировщика ищут в тумане, то есть, по ходу, меня, а я тут сам с пулеметом. Типа, какой идиот лоханется с пулеметом на корректировку, да?
Слушающие одобрительно и понимающе кивают, гоняя стынущие чаи (писи сиротки Хаси) и такой же по консистенции кофе.
— Пока он не опомнился, я, по ходу, такой ему сразу: «Ты, б...дь, меня демаскируешь, мудак! Уе...вай на х...й отсюда! Не видишь, б...дь, я в засаде сижу!». А он, по ходу, мне такой: «Я, б...дь, сам потерялся. Е...ный туман. Рация не фурычит ни х...ра...».
За столом все смеются, предвкушая уже известную всем развязку. У Алексея похолодело в груди. Сердце опять начало отстукивать азбуку Морзе — аритмия. Запасы кордарона остались в его рюкзаке, уехавшем на БТРе неизвестно куда. Нужно будет в общей аптечке порыться, в вещмешке с красным крестом на большом кармане, в медуглу КСП.
— Я ему протягиваю свою «мотороллу» — по ходу, попробуй мою! — Юрка наращивает темп и драматизм рассказа, размахивая руками, поправляя сползающую на лоб каску и чуть ли не заикаясь: — Тот, по ходу, руку протягивает. Нагнулся так. Я ж п-п-п-понимаю, стрелять нельзя, сепарский окоп рядом, за подбитым БМП. Я такой снимаю каску и хрясть ему каской прямо по балде.
Юрка снимает с себя каску и чуть ли не с пеной у рта рассказывает, как бил этого сепара каской по голове, пока та, «по ходу», не лопнула, «як кавун»[5], как потом он долго сидел над мертвым сепаром с окровавленной каской в руке.
— Я потом только понял, что сам весь в крови. Весь броник, разгрузка, все лицо, даже штаны забрызганы. А у сепара вместо головы одно сплошное кровавое месиво.
Тишина. Никто не смеется. Каждый смотрит в стол или в пол, словно ищет что‑то. В этот раз у Юрки рассказ получился какой‑то особенно кровавый. Он и сам это понял, перешел к документам:
— Я в карманах у него порылся, военный билет нашел. Из города Орска парень, короче. Из Сибири, что ли? Бывший артиллерист. Запасник. На год меня старше. И фото дивчины[6] такой. Интересная, по ходу, такая вся. Прическа, б...дь...
Документы у командира. Все ждут, что он их покажет. Но тот отворачивается и снова начинает вызывать Майка.
«До какой же степени осатанелости доходят люди на войне, — подумал Алексей. — Потом окажется, что самым ярким воспоминанием в Юркиной жизни так и останется то, как он человека каской до смерти забил».
Алексей вспомнил свои собственные «яркие» военные впечатления, и ему сразу стало не хватать воздуха. Он поднялся и вышел из комнаты в глухую холодную тьму терминала. У сепаров на другом конце взлетного поля с характерным чавкающим звуком заработала «улитка» — гранатомет АГС-17, прозванный так за круглый короб, напоминающий огромного моллюска.
«Зачем? Только пехоту пугать, — подумал Алексей, прекрасно разбирающийся в стрелковом оружии. — А вся пехота здесь. Чаи гоняет».
Алексей вернулся в КСП, сел в углу на чей‑то спальник, достал одну из двух своих камер, осторожно снял объектив. Спринцовочкой продул камеру и объектив с внутренней стороны, вставил свой любимый замызганный и потертый широкоугольник 16–35 мм на место, протер его, насколько это было возможно, тряпочкой из очечника. Другим объективом, с которым он тоже не расставался ни днем, ни ночью, был телевик 70–200 мм. Четвертый день в Аэропорту. Четвертый день практически без сна, без еды и без воды. Связь такая нулевая, что фото смог передать только один раз, на второй день.
Вспомнил приснившийся голос покойной Ксюши. Вспомнил голос Ники. Такие разные. Обе такие живые, такие желанные. Достал телефон. Посмотрел на Степана-Бандера. Тот сидел к нему спиной, вызывая то штаб батальона, то бригады, одинаково безуспешно.
Алексей открыл сообщения, прочел Никино последнее: «Умоляю, вернись. Тебе нечего делать в КАП. Вернись».
На голову посыпались куски штукатурки. Комната заходила ходуном. Барабанные перепонки почти лопаются от разрывов, словно ракеты взрываются в голове.
— По ходу, «Градом» кроют, — кричит Юрка-Паровоз, бросаясь на пол.
Все остальные уже на полу. Оружие в руках на взводе. Неужели сепары снова полезут?
Когда пыль, поднятая в КСП близкими разрывами, перестает клубиться и застилать глаза, становится понятно, что артподготовка закончена. Бойцы подхватывают цинки с дополнительным БК, рассовывают по карманам разгрузки гранаты Ф-1[7], РГД[8], ВОГи[9] для подствольников. Взваливая за спину «мухи»[10] и другие РПГ, бросаются за посеченную осколками массивную железную дверь — занимать позиции. Алексей, забыв о боли в груди, следует за ними, поднимая к глазам камеру и на ходу выставляя режимы.
— Бетмен, доповicи по втратах! Потiм на позицiю! — орет Бандер в спину убегающим и, остановив Юрку рукой притягивая к себе, рычит ему в самое ухо: — Дивись за кацапом! Головою вiдповiдаэш![11]
— За пиндосом? — переспрашивает Юрка, подхватывая одной рукой свой ПКМ, другой — два цинка с БК.
— Ну, ти мене зрозумiв[12], — Бандер шарит рукой в разгрузке, достает мобильник. Сигнал никакой. Проверяет сообщения. Новых нет. Последнее, вчерашнее, было от жены Ники: «Благаю, вiдправ його звiдти. Кохаю тебе. Твоя Нiка»[13].
The wood and the leather the club and shield
swept like a wave across the battlefield.
Dire Straits. Iron hand lyrics[14]
30 НОЯБРЯ 2013 ГОДА. КИЕВ
Алексей прилетел в Киев на перекладных из Далласа 30 ноября, днем. Рассчитывал пробыть недельку, заменить прихворнувшего коллегу-фотографа, попробовать галушек, сала, горилки и что там еще причитается гурманам в этой части суши, которая уже больше года не светилась в новостях, как будто ее вообще не существовало.
Не захватил с собой ничего серьезного. Ни броника, ни каски. После недавних крутых командировок в Ливию и Сирию мог ли он, опытный военный журналист, представить себе, что не улетит назад ни через неделю, ни через месяц, ни через полгода? Что его обычный авиабилет на самом деле был не в Киев, а на одну из самых удивительных, самых трагических, самых необязательных войн в его жизни? И по существу — билет в один конец.
Он прекрасно знал Украину, Киев, дружил со многими украинскими фотографами, и не только. Мог ли он тогда представить, что приехал на самую настоящую войну? Войну между Россией и Украиной.
Алексею шел пятьдесят первый год. Сам себя он считал, что называется, в расцвете сил, как считал и десять лет назад, и двадцать. Иными словами, расцвет сил у него явно затянулся. Постоянная работа на свежем военном воздухе держала его в форме, и он выглядел лет на сорок, не больше. Среднего роста, поджарый, хорошо сложенный. С правильными чертами лица, глубокими серо-голубыми глазами, прямым, почти римским, носом и ртом, окаймленным недельной седеющей щетиной. Алексей мог гордиться своей волнистой, местами седеющей густой шевелюрой, которой многие знакомые девушки и женщины даже завидовали.