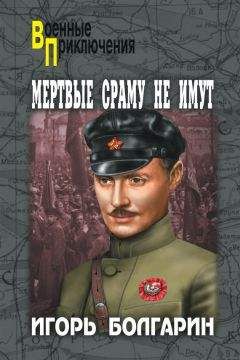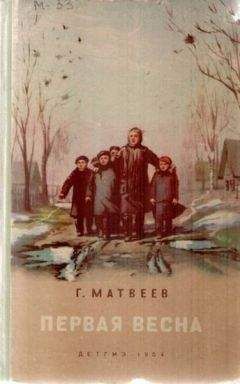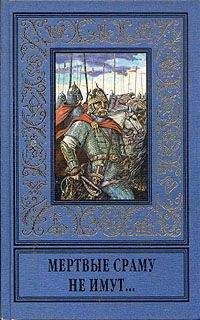– Нет.
– Иной конец я тебе предложить не могу. Потому что в моей сказке этот вор был вполне приличный человек. Бывают и приличные люди – воры. Ну те, которые воруют у воров и возвращают ворованное обворованным. Правда, это случается очень редко, и то – только в сказках.
– Нет! Мне не нравится такой конец, – решительно сказала Нина. – Чему в таком случае учит эта твоя сказка?
– Ничему. Это ведь неправда, что сказки чему-то учат. Учит жизнь. И то, если больно учит.
Иногда по старой памяти к Слащеву заходил Жихарев. Он как-то незаметно вошел к нему в доверие. И хотя едва сводил концы с концами, почти всегда приносил с собой какой-то дешевенький подарок, игрушку ли для Маруси или гроздь винограда, апельсин или кусочек рахат-лукума для Нины Николаевны. Ему льстило, что он знаком с самим Слащевым и имеет возможность иногда его навещать.
Когда однажды Маруся заболела, Слащев вызвал из посольства врача. Тот сказал, что ребенок ослаблен, ему нужно усиленное питание, и посоветовал включить в ее рацион куриный бульон.
Узнав об этом, Жихарев принес двух живых кур.
– Вы уж, пожалуйста, одну зарежьте, – попросил Слащев.
– А что ж вы сами? – удивился Жихарев.
– Не могу.
– Как это? – не понял Жихарев.
– А так. Я за всю свою жизнь ни одной курицы не зарезал. Боюсь крови.
Жихарев отошел к связанным курам, возле которых уселась и наблюдала за ними добела отмытая Зизи. Трогая их лапой, играла с ними.
Зизи в доме никого не признавала, ни хозяина, ни хозяйку и как привязанная постоянно ходила следом за Пантелеем, и он всегда находил для нее на кухне что-нибудь вкусненькое. Она любила конфеты, и у Пантелея в кармане всегда лежало для нее какое-нибудь угощение. Даже конфеты, которые Пантелей покупал для нее на базаре, выкраивая для этого несколько копеек из семейного бюджета.
– Скажите Пантелею, пусть зарежет курицу! – распорядился Слащев.
– Да чего там! – Жихарев вынул из кармана складной, слегка похожий на ятаган нож и, прихватив одну из связанных куриц, скрылся с нею за сарайчиком. Вскоре вернулся, положил у ног Слащева мертвую курицу и стал травой протирать нож.
– Пантелей! – окликнул Слащев денщика. – Тебе работа!
Пантелей унес зарезанную курицу на кухню, следом за ним последовала и Зизи.
Жихарев присел на скамейку рядом со Слащевым, задумчиво закурил. После долгого молчания сказал:
– Я, конечно, извиняюсь, а что ж большевики в газетах писали: «Слащев – кровавый палач», «Слащев – вешатель»? Я сам читал.
– Они дураки, – ответил Слащев. – Генералы не расстреливают и не вешают. Они отдают приказы. Всего лишь. Расстреливают и вешают другие.
– А не жалко людей? – спросил Жихарев.
– Людей?.. Ну, вот завелись у тебя вши, блохи или клопы. Жалеть их будешь?
– Ну, вы скажете! Мы – о людях.
– А чем эти твари отличаются от тех, кто ворует, грабит, убивает ни в чем не повинных?
– Все равно он, хоть и плохой, но человек.
– Ошибаешься. Такой – не человек. И цена ему такая же, как той же блохе. Человек – это тот, кто живет на пользу людям. Или хотя бы думает, что живет им на пользу.
– По-вашему выходит, что красные, они вроде как и не люди.
– Ошибаешься. Они думают, что создают новый мир, полезный человечеству. Они – люди. Возможно, заблуждающиеся, но люди, – и, помолчав немного, Слащев добавил: – Это, брат, сложные материи. Я и сам не до конца в них разобрался. Но изо всех сил пытаюсь.
После возвращения Врангеля в Константинополь начальник штаба Шатилов пришел к нему с докладом. Ничего заслуживающего внимания главнокомандующего в первые пасхальные дни не произошло.
– Правда, дважды заходил в штаб и хотел с вами встретиться господин Юренев, – сказал Шатилов.
– Что за Юренев? – удивленно спросил Врангель. – Кто такой?
– Помните, в рождественские дни заходил к вам господин? Назвался Юреневым. Сказал, что представляет в Константинополе российских общественных деятелей.
– Что ему было нужно?
– Просил вас походатайствовать насчет помещения для общества.
– Что-то припоминаю. Там у них, в этом обществе, всякие политики, адвокаты, журналисты. Шайка дезертиров. И что же?
– Вы попросили нашего посла Нератова помочь. Кажется, им выделили комнату в здании посольства.
– Оказывается, я иногда по доброте своей совершаю большие глупости, – скупо улыбнулся Врангель. – И что ему надо на сей раз?
– Он оставил письмо. Думал, срочное. Распечатал. Это что-то вроде доноса.
– На кого?
– На вас, ваше превосходительство. К ним обратился Яков Слащев, вменяет вам в вину все наши военные неудачи. Осторожный господин Юренев ответил Слащеву, а вам пересылает его копию.
– Интересно, – Врангель взял особняком лежащее на столе письмо, углубился в чтение. Прочтя, поднял глаза на Шатилова: – Ну, и что вы по этому поводу думаете?
– Не обращать внимания. Их много теперь таких, ваше превосходительство.
– Каких?
– Ну, уверенных в том, что они могли бы разгромить красных. Всем языки не укоротишь. Как это говорится: собака лает…
Врангель нахмурился:
– Слащев – это не один из многих Он один такой – Слащев-Крымский. Вот только он, к сожалению, уже забыл, что это я присоединил к его фамилии почетное звание «Крымский», что это я поддерживал его во всех его делах? Закрывал глаза на все его кокаиновые непотребства?
– Я с трудом представляю, как на него можно повлиять! Был бы он в армии, можно было бы предать его суду чести, – размышлял Шатилов. – Ведь это вы сами своим приказом отстранили его от армии.
– Но он все еще генерал. Отставленный от армии, но – генерал.
Шатилов начинал неторопливо что-то уяснять:
– Вы предлагаете…
– Я пока ничего не предлагаю, – ворчливо сказал Врангель. – Я всегда полагал, что предлагать – обязанность моих подчиненных, в том числе и начальника штаба. А моя задача – выбирать среди предлагаемого лучшее.
Врангель все больше багровел. Шатилов хорошо знал своего командующего: еще минута-другая, и он зайдется в неприличной истерике.
– Я вот о чем думаю, – почти как в цирке дрессировщик львов, тихим успокаивающим тоном сказал Шатилов. – Все же мы можем предать Слащева Суду Чести. Я сегодня же подготовлю для суда соответствующее представление, – он замялся. – Хотя, конечно…
– Что?
– В этом содержится некоторое нарушение. По статуту Суду Чести предаются только действующие офицеры.
– К черту формальности! Судить будем всех высших офицеров, которые роняют авторитет нашей армии! И не имеет значения, находятся они на службе или отстранены от нее! – все же наконец взорвался Врангель.
Спустя неделю состоялся Суд Чести. Судили Слащева заочно. Основанием послужило его обращение на имя председателя Комитета общественных деятелей Юренева. В постановлении Суда Чести говорилось:
«Признать поступок генерал-лейтенанта Слащева-Крымского Я.А. в переживаемое нами тяжелое время недостойным русского человека и тем более генерала, посему генерал-лейтенант Слащев-Крымский Я.А. не может долее быть терпимым в рядах Русской армии».
Принесенное Шатиловым постановление Суда Чести на одобрение Врангель бегло просмотрел и размашисто написал:
«Утверждаю! Приказываю уволить генерал-лейтенанта Слащева-Крымского от службы…»
– Ваше превосходительство, но он уже однажды уволен! – сказал Шатилов. – Как тут быть?
Врангель какое-то время молча размышлял и затем приписал:
«… без права ношения мундира».
Шатилов забрал утвержденное Врангелем постановление, прочитал конец резолюции.
– Вот с этим Слащев никогда не смирится, – сокрушенно покачал головой Шатилов. – С семнадцати лет в армии, девять боевых наград…
– Не давите на жалость, Павел Николаевич. Я в своей жизни из-за доброты совершил немало ошибок. Сейчас иное время. Оно заставляет меня быть жестоким.
И уже когда Шатилов покидал кабинет, Врангель бросил ему вслед:
– И, прошу вас, никогда больше не напоминайте мне о Слащеве. Для меня он погиб еще тогда, в мае девятнадцатого, в боях при овладении Крымом.
Вечером штабной нарочный принес Слащеву подписанный Врангелем приказ об увольнении из армии.
– Они что, больные! – сказал он Нине. – В который раз меня со службы увольняют. Одного раза им показалось мало?
Но, дочитав приказ до конца, он удивленно проворчал:
– Но нет, тут не все так просто.
– Что там еще? – спросила Нина.
– Похоже, они решили добить меня до конца. Вот, читай: «…уволить со службы…». Это ладно, смотри дальше: «…без права ношения мундира».
Он нервно походил по комнате, осмысливая происшедшее. И затем сказал, но не Нине, а тем другим, которых здесь, в комнате, не было: