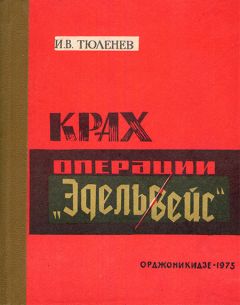Явно не хватало внутреннего толчка, который бы внес разрядку в натянутые отношения. Странно, чтобы создались такие натянутые отношения, хватило самой малости, а вот чтобы нарушить их, нужна была, казалось, целая буря.
И эта буря, как говорится, грянула.
Вдруг из распахнутого окна хаты, напротив которой толпились вокруг Чубаря ширяевские крестьяне, послышался женский голос:
— И не стыдно вам, мужики?
Все повернули головы.
В окне стояла молодая женщина. Это была хозяйка хаты, Шунякова Палага. Сам хозяин уже который год сильно болел и не вставал с постели. Не иначе Палага стояла незамеченной у окна давно и слышала, о чем шел разговор, ибо недаром сразу начала срамить мужиков. Голос ее звучал укоряюще, но на лице почему-то играла озорная усмешка. Это Чубарь отметил прежде всего, как только увидел женщину. И Палага во все глаза смотрела на него. Ей чем-то — просто, может, как женщине — приглянулся незнакомый и видный из себя человек, приехавший в деревню, как выяснилось, на краденом коне. Она случайно подошла к окну как раз в тот момент, когда петропольский единоличник налетел коршуном на всадника. Показалось, что на улице прямо-таки началась драка, и она сперва ужаснулась, однако дело было довольно быстро улажено благодаря вмешательству Егора Пищикова. Но еще больше удивилась Палага, когда выяснилось, что приезжий и Егор Пищиков знакомы между собой. И может, потому не отошла сразу от окна, постояла некоторое время, послушала, о чем пойдет разговор. Признаться, разговор, начавшийся затем под окнами ее хаты, не заинтересовал ее. Ей показалось, что в нем не было того ладу, который должен был установиться даже между незнакомыми людьми при первой встрече. Особенно когда в разговор встревал дед Пшекин. Тот обладал довольно редкой способностью незаметно превращать все в пустую забаву. В деревне над этим потешались, но не обходилось и без того, чтобы кто-нибудь надолго не затаивал на него обиду. Один раз, например, он подзадорил мужиков, мол, покупайте в Гореличах водку да приходите на зайчатину. Все знали, что Пшекин изредка бегал с ружьем вокруг Ширяевки, случалось, дичь приносил домой, и особого подвоха с этой стороны от него не ждали. Ясное дело, в Гореличи был сразу направлен по снежной целине посланец. И вот под вечер с бутылками в карманах ширяевские мужики гурьбой ввалились к Пшекину в хату. А тот себе спокойно спал на печи. Конечно, стесняться никто не стал, тут же растолкали хозяина. Пшекин проснулся, захлопал глазами, потом сморщился — не могли подождать, пока он досмотрит до конца сон! — и начал не спеша одеваться. Степенные мужики топали настывшей обувью по полу, ничего не подозревая. И только потом, когда хозяин наконец потянул с вешалки полушубок, у мужиков раскрылись глаза: «Куда ты?» — спросили его. «Как куда? — притворно удивился Пшекин. — Зайцев пойду настреляю. Как раз пороша выпала. Может, подниму русака». Выходило, что он пригласил на зайчатину, которая еще бегала за деревней. Конечно, мужики принялись ругать Пшекина. Но что поделаешь? Сами виноваты, если так легко поверили. Но самую злую шутку сотворил Пшекин, будучи еще подростком, над родным дядькой. Приходит как-то в хату к дядьке, а тот и говорит ему: «Ну, племянничек, соври что-нибудь». Племянничек сразу же обиделся: «Некогда, дядь, батя сказал, чтобы в баню вы шли к нам». Ну, дядька, конечно, поспешил на чердак, да за веник березовый. Приходит к брату. Открывает баню, а там хоть волков гоняй, никто и не собирался в тот раз топить ее… Но сегодня Пшекин почему-то не очень был склонен шутить. Даже Палаге из окна казалось, что он все время будто спохватывался, не давая воли языку, хоть и донимал расспросами незнакомого человека, и потому разговор шел, можно сказать, вполне пристойно. И вот под конец, когда человек стал напрашиваться в гости, а деревенские мужики будто растерялись, чуть не свару затеяли между собой, Палага не утерпела. За первыми словами, которые прозвучали насмешливо, последовали еще:
— Человека покормить жалеете! — И обратилась к Чубарю: — А вы зря кланяетесь столько! Заходите к нам!
Она подалась вперед. Теперь ее можно было разглядеть. У Палаги были совсем рыжие, словно медные, волосы. В темных глазах затаилась улыбка, проникавшая какими-то своими путями и в уголки резко очерченного рта. Оголенные по плечи руки были по-крестьянски загорелы и красивы; сложенные накрест, они спокойно лежали на подоконнике, подпирая высокую грудь, скрытую под тесноватой, а может, нарочно сшитой без запаса голубой блузкой.
Чубарю пришла в голову неспокойная мысль, что ото, наверное, какая-то соломенная вдова или просто деревенская молодуха, которой ничего не стоит заманить с дороги в хату любого приглянувшегося мужчину, но по тому, как восприняли ширяевские мужики сделанное ею приглашение — серьезно, без хитроватого любопытства, — можно было подумать и иначе. Правда, Палага своим неожиданным приглашением как бы спасла положение. Такое обстоятельство, конечно, могло повлиять на поведение людей. Ширяевские мужики одобрительно закивали Чубарю головами, то ли подзадоривая его зайти в хату, то ли просто прощаясь; по крайней мере, расходились они с видом, исполненным достоинства, который обычно бывает после свершения чего-то очень стоящего, даже позабыв при этом, что на опушке по-прежнему метались, будто покусанные кем, свиньи…
Чубарь толкнул от себя калитку, сбитую из березовых колышков, скрепленных наискось горбылем, взошел на подворье. На высоком прясле, что отделяло огород от деревенской улицы, стоял на крепких шишковатых ногах красавец петух, сизо-красный, с длинными золотистыми полосами на шее. Увидев во дворе незнакомого человека, он не на шутку забеспокоился, переступил по верхней жерди, а потом вдруг захлопал крыльями и громко, с хрипотцой в голосе прокричал несколько раз подряд, как бы выговаривая: «Вот тебе и на! Вот и гость к нам!»
Прямо на крыльце, при входе в сени, лежала черная собака. Но она даже не подняла головы на Чубаря.
Хата, в которую Чубарь должен был зайти, состояла их трех частей: первой, собственно самой хаты, имевшей аршин около девяти в длину, затем так называемой пристройки, служившей второй половиной хаты и строившейся отдельно, уже, наверное, после того, как хозяева жили в первой половине, и, наконец, сеней.
Хозяйка, увидев через окно Чубаря, входившего во двор, сама поспешила на крыльцо. Собака и при ее появлении не шевельнулась. Тогда хозяйка толкнула ее носком высокого зашнурованного ботинка, и та, лениво растягивая ребра, словно обручи в верше, соскочила с крыльца, но не отбежала, а осталась стоять, будто ожидая, пока пройдет человек в избу, чтобы потом занять прежнее место.
— Заходите, пожалуйста, — сказала хозяйка Чубарю.
Следом за ней Чубарь вошел в пристройку и сразу растерялся. На деревянной кровати, стоявшей в небольшом простенке за печью, лежал накрытый полосатым одеялом человек. Он не повернул головы на стук шагов, по Чубарь увидел заросшую щетиной левую щеку, сжатые губы и заостренный, с горбинкой нос. Глаза его время от времени моргали. В затененной хате стояла затхлость, пахло человеческой мочой. В душе у Чубаря шевельнулось недоброе чувство к женщине: должно быть, в самом деле вертихвостка, а больной муж лежит неухоженный. Чубарь от этого даже замешкался у порога. Но хозяйка уже открывала широкую, почти квадратную, дверь в другую половину хаты, и ему ничего не оставалось, как пройти дальше.
Там было все по-другому, не так, как в пристройке: пол из сосновых досок чисто выскоблен, точно нижняя корка ржаной буханки; на стенах вышитые, видно, еще из девичьего приданого рушники; богатая деревенская постель могла вызвать у каждого зависть — пуховые подушки в белых миткалевых наволочках, самотканое одеяло, похожее на фабричный ковер, простыни из отбеленного тонкого полотна. Должно быть, женщина немало потрудилась, собираясь замуж, но почему-то ей не повезло. Несмотря на опрятность и свежий воздух, который наполнял хату через распахнутое окно, Чубарю еще некоторое время казалось, что из пристройки и сюда проникает запах мочи и больного человеческого тела.
— Вот тут посидите, — сказала хозяйка, показывая на табуретку возле стола, — а я сейчас поищу, чем накормить вас, раз уж пригласила.
Она вовсе не суетилась, движения ее были неторопливые, может, даже несколько медлительные; во всей фигуре ее чувствовалась та еще девическая нерастраченность, что бывает и у замужних женщин, еще пи разу не рожавших.
Перед тем как выйти, она сказана:
— Это муж мой. Болеет.
— Что с ним?
— Да все… — она вздохнула. — И позвоночник, и… как это, мочевой пузырь. Точно не знаю, как называется болезнь. В бумажке вон, что в больнице давали, написано все. Лежит бедняга который год и пошевелиться не может, не то что на ноги встать.
— В аварию, попал? — спросил Чубарь.
— Нет, само приключилось.