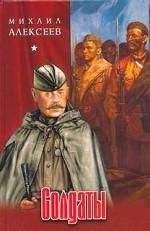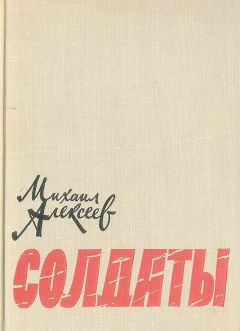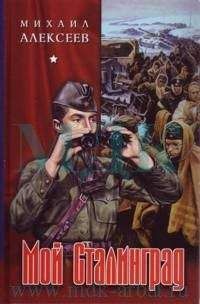Наташа сильнее стиснула руку Акима. Солнечные брызги путались в золотистых завитках ее волос, выбивавшихся из-под пилотки, скользили по разрумянившимся от возбуждения щекам. Глаза ее, которые сейчас были, казалось, еще больше и еще синее, чем обычно, смотрели грустно.
По лицам многих румынских девушек катились слезы. Наташа посмотрела на них и заплакала сама.
Соединились воедино печаль и радость, образовав одно большое и сложное чувство, в котором Наташа и сама не могла разобраться. У людей с чуткой и нежной душой такое бывает часто. Аким понял ее состояние, и ему сделалось немного легче. Он внезапно заговорил. И речь его, сбивчивая, странно поразила всех:
– Кто, кто же напишет о вас книгу?.. Наши милые, чудесные товарищи!.. Такую книгу, чтобы о ее страницы обжигались сердца... чтобы, читая ее, люди будущего стыли от удивления... от гнева и восторга!.. Прощай, Али!.. Прощай, Василика!.. - Помолчал, трудно глотнул воздух и закончил: - Еще раз прощай, Каримыч!.. Не обижайся на нас... что оставляем тебя здесь. И тут будут наши друзья. Будут, Али... Уже есть!..
– Мы будем хранить его могилу, - тихо, почти клятвенно, сказала по-румынски Маргарита, будто узнала, о чем говорил этот высокий, сутулый русский солдат.
Разведчики отдали салют.
Девушки положили венки.
С кладбища румынки уходили взявшись за руки. И среди них шла Наташа. Девушки пели песню, слов которой Наташа не понимала, но песня была - Наташа знала это - созвучна ее чувству, и она мысленно подбирала слова, в которых объединялись и печаль, и радость, и светлая надежда, и любовь, и горячая клятва.
Ветер распугал редкие тучки, небо очистилось, и стало еще светлее. На пригнутых виноградных лозах висели тяжелые и прозрачные, но еще зеленые гроздья...
Подошли к селу. Не подошли, а будто подлетели на крыльях песни. Зеленые улицы купались в солнечном море. В центре села Наташа распрощалась с девушками. Она шла в свое подразделение и думала, что у нее и у ее родины теперь будет много-много подруг и друзей. Наташа улыбнулась своей мысли и, счастливая, побежала к домику Бокулеев, над которым трепетал на легком ветру красный флаг, уже давно установленный Пинчуком.
К вечеру разведчики покидали село. Незадолго до этой минуты к Петру Тарасовичу подошел Аким.
– В политотделе перевели те бумажки, что дал тебе хозяин, помнишь, -сказал он, присаживаясь рядом со старшиной на ступеньках крыльца. -Любопытный документ, Тарасыч! Очень любопытный...
– Да ты читай, Аким,- нетерпеливо поторопил Пинчук. - Цэ дуже интересно.
– Называется этот документ: "Изяславская Прокламация 1848 года". С этим манифестом выступил румынский революционер Николае Бэлческу. Вся прокламация очень длинная, и на досуге ты, Тарасыч, прочтешь ее всю. А сейчас зачитаем только... только... Ну вот хотя бы это, - Аким нашел отчеркнутое им и прочел: - "Румынский народ желает установить справедливость для всех, особенно для бедных. Бедняки, селяне, землепашцы, кормильцы городов, настоящие сыны Родины, которые столько времени носили считающееся позорным имя Румына, которые выносили на своих плечах все трудности и в течение многих веков обрабатывали землю бояр и обогащали их, кормили прадедов, дедов, родителей и, наконец, нынешних землевладельцев, эти люди имеют право потребовать великодушия у землевладельцев и справедливости у Родины - предоставления им участка земли, достаточного для пропитания их семьи, а также пастбища для скота, участка, который был уже давно окуплен их трудами на протяжении столетий".
– "Великодушия у землевладельцев!" Як бы не так! - вдруг зашумел возмущенный Пинчук. - Жди от помещиков великодушия!..
– В этом-то, Тарасыч, и вся беда. Народ был еще страшно наивен. И за это жестоко расплачивался... А что, Тарасыч... - Близорукие глаза Акима мечтательно сузились... - А что, Тарасыч, не исключено, что вот только теперь и, может быть, только потому, что пришли сюда
мы, сбудутся наконец эти вековые упования бедных румын, а? .
– А як же! Понятно, сбудутся. К тому дело иде, - твердо выложил Пинчук, удивив Акима определенностью своих убеждений. - А ты як думал?
– И я так же.
...Провожать разведчиков вышла вся семья Бокулеев во главе с хозяином, хотя ему это стоило больших трудов: он был еще очень плох и еле держался на ногах. С горы, от боярской усадьбы, спустился во двор Бокулеев старый конюх Ион, который давно уже сдружился с советскими разведчиками. Жена хозяина, одетая по-праздничному, вручила Пинчуку огромный сноп пшеницы, увитый цветистыми лентами, как золотые косы девушки. Растроганный Кузьмич бережливо уложил подарок в повозку.
Вместе с разведчиками в поход собрался и Бокулей-младший. Мать заплакала, но он что-то сказал ей, и она замолчала. Должно быть, Георге удалось убедить ее, что иначе он поступить не может. Его горячо поддержал старый Ион, сказавший на прощание:
– Иди, иди, сынок. С русскими не пропадешь. Хаживал я с ними! Иди!
В саду стоял Никита Пилюгин, но не один. Разведчики с удивлением увидели рядом с ним Маргариту.
– Ишь ты, черт непутевый! Видал тихоню? - засмеялся Сенька. - Вот еще адеменитор[28] новый объявился!..
Румыны провожали разведчиков до соседнего села, а потом еще долго стояли на одном месте, толкуя меж собой о чем-то. Под косыми лучами уплывающего за горы солнца ярко светился коричневый лоб Бокулея-старшего да какая-то медная бляшка на кэчуле[29] Иона.
Солдаты уходили вперед, не думая в эту минуту о том, что принесли они с собой в души этих простых хлеборобов. Теплый, ласкающий ветер, ожидание близкой окончательной победы постепенно отогнали грусть, навеянную на солдат посещением могил Каримова и Василики. Только Пинчук сидел нахохлившись да щипал свои усы. Петр Тарасович был не в духе. Перед самым выездом из Гарманешти он получил от Юхима письмо. Тот сообщал ему, что с постройкой клуба вышла неувязка: не хватает транспорта, в колхозе к тому же не оказалось своих специалистов, а район пока не дает.
"Мабуть, придется отложить до моего приезду", - подумал Петр Тарасович с некоторой грустью: отсрочка строительства клуба не входила в его планы.
– Погоняй, Кузьмич! - пробасил он, вынимая из широченного кармана шаровар кисет.
Утром 20 августа знойное синее небо стало вдруг серым. Воздух звенел от разрывов снарядов и буравящих его сотен советских бомбардировщиков и истребителей. Огромные столбы пыли и дыма закрыли солнце. Все, что долгие месяцы накапливалось, укрывалось в лесах, оврагах, садах, в земле, что приводилось в готовность и усиливалось изо дня в день: людские массы, оружие, боевая техника в невиданных еще количествах, все, что зрело для Седьмого сокрушительного удара, - вся эта грозная сила, наэлектризованная одним мощным зарядом - нетерпеливым стремлением двинуться вперед и смести преграждающего путь врага, - по одному приказу пришла в движение, и неприятельские укрепления затрещали под ее напором.
Танковые полки и бригады, посадив на свою броню пехоту, на полной скорости мчались вперед по дорогам и без дорог, по разным направлениям. Казалось, что-то стихийное было в этом потоке и им нельзя было руководить, направляя его к одной разумной цели. Между тем управление было, и оно было отличным: танковые экипажи разговаривали между собой по радио, командиры машин - с командирами взводов, те - с командирами рот, ротные - с батальонами, и так до командира бригады, корпуса, армии, фронта...
В первые часы наступления немцы и румыны пытались еще оказать сопротивление, на отдельных участках фронта оно было упорным. Но уже к двенадцати часам дня вражеская оборона рухнула едва ли не на всем протяжении - от Пашкан до Ясс. Войска Второго Украинского фронта почти прямолинейным движением своих ударных группировок устремились на юг, чтобы уже 25 августа в районе Леушени - Леово встретиться с войсками Третьего
Украинского фронта и замкнуть кольцо окружения войск генерал-полковника Фриснера.
Немцы откатывались в глубь страны, на юг, даже не подозревая о том, что путь им отрезают войска маршала Толбухина. Советские танки и самолеты настигали отступающих. Почти все дороги были завалены поврежденной неприятельской техникой и трупами немецких солдат. В кюветах лежали с перебитыми ногами и распоротыми животами немецкие битюги, барахтаясь в искромсанных упряжках. Настигнутые нашими танками, одни из немецких солдат тут же падали на землю, прятали свои головы как бы только затем, чтобы не видеть своего смертного часа; другие, обезумев, с дикими криками бежали в степь; многие офицеры стрелялись...
Неудержимый наступательный порыв, достигший ко второй половине дня наивысшего напряжения, порождал своего рода соревнования: одна дивизия стремилась обогнать другую, первой ворваться в город или селение.