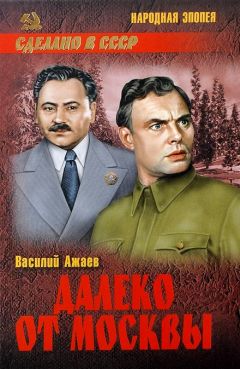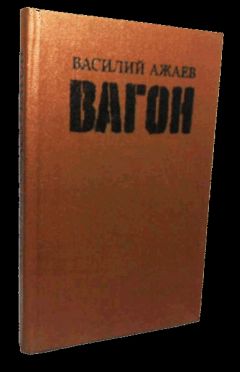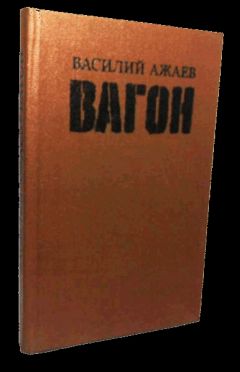У Ефимова все было заведено как в крупном учреждении — кабинет, большая приемная, секретарь. В приемной теснились люди — сидели, стояли, переговаривались между собой, спорили с рыхлой флегматичной женщиной, сидевшей за секретарским столом. Несколько человек стояли возле Сморчкова. Шофер рассказывал о партийной конференции. Увидев Залкинда, он поспешил к нему.
— Сморчков? Ты уже здесь?
— Что же получается, товарищ Залкинд? — взволнованно заговорил Сморчков. — Мне ведь снарядиться надо, я спозаранок дальше ехать должен. А здесь ни черта не добьешься. Горючего на заправку не дают, и покормить не догадались. Один начальник участка власть имеет, остальные у него пешки. И попасть к нему труднее, чем к наркому. Вы уж помогайте...
— Ничего, Сморчков, все получишь, немножко потерпи.
Залкинд присел, закурил и завел беседу с ожидавшими приема. Они, не стесняясь, ругали Ефимова. Десятники ждали весь вечер, пока начальник участка лично посмотрит и. утвердит расстановку бригад на завтра. Экспедитор возмущался тем, что Ефимов не подписывает какую-то бумажку на получение хлеба для рабочих левого берега: пекарня, как и все бытовые предприятия, оставалась еще на правом берегу. Комендант рабочего поселка нервничал: нужно было к утру успеть подвезти дрова из лесного склада, однако Ефимов почему-то не давал разрешение на транспорт.
— Своими двумя руками и дурной головой хочет заменить тысячу рук и пятьсот хороших голов, — проговорил Сморчков.
В кабинете Ефимова, как и в приемной, скучали несколько посетителей, и, судя по ожесточенным лицам, уже давно. Внимание Залкинда привлекла стоявшая у печки небрежно заправленная кровать. Странно было видеть ее в служебном кабинете. Ефимов громко кричал в трубку телефона. Он не оставил ее и при появлении Залкинда, только привстал, чтобы с ним поздороваться. Из выкриков Ефимова можно было понять: он разговаривает с председателем рыболовецкого колхоза, требует вернуть данные взаймы пятьдесят килограммов гвоздей. Со своим измученным, небритым, казалось неумытым лицом, седыми волосами и воспаленными глазами, он выглядел больным.
Наговорившись досыта, Ефимов отпустил ожидавших его работников и с усталой улыбкой посмотрел на Залкинда.
— Давненько не видел тебя, Михаил Борисович. В гости пожаловал ко мне? Раздевайся, у меня тепло.
— Сколько тебе лет, товарищ Ефимов? — спросил парторг.
— Тридцать три. Почему заинтересовался?
— Помнишь Терехова? Ты ровесник ему, а по виду годишься в деды и уж наверняка в папаши. Седой, страшный, форменный старик. Болеешь, что ли?
— Не болею — измотался с участком. Трудно работать в военное время. Людей толковых нехватает, то того, то другого нет. Управление не пойму — зачем-то на левый берег надо перескакивать. Только устроились — и все снова налаживай. Круглые сутки нервничаешь, кричишь. Нет покоя ни на минуту. К вечеру голова разрывается, только и выезжаю на пирамидоне.
Как бы в доказательство, Ефимов достал из ящика стола пакетик пирамидона, вытряхнул порошок на язык и запил его водой. Залкинд наблюдал за ним, с трудом сдерживая раздражение.
— Значит, на пирамидоне выезжаешь? Плохого ты себе коня выбрал. На нем далеко не ускачешь.
— Да, подохну, наверное, скоро, сгорю на работе, как говорится, — охотно согласился Ефимов. — Придется вам, товарищи, искать другого начальника участка.
— Эх,ты, неврастеник! Тряпка! — вспылил Залкинд.— Я-то думал, из тебя работник получится.
Он встал и вплотную подошел к столу Ефимова. Тот растерянно поднялся с места.
— За что ты на меня, Михаил Борисович, накинулся?
— За то, что проваливаешь дело! За то, что надежд наших не оправдал!
— Не оправдал надежд? Делаю все возможное. Если что не так... большего никто не сделает.
— Все делаешь не так. Сам не понимаешь, что делаешь.
— Работаю день и ночь. Никому не даю покоя. Живу в кабинете, даже койку свою поставил здесь.
— Вот, вот! Задергал себя и людей. Занимаешься каждым килограммом горючего, вместо экспедитора или агента по снабжению. Боишься, что рабочие лишнюю буханку хлеба съедят. К тебе вынуждены приходить за разрешением на каждый рейс машины. Это у тебя называется — бороться за экономию? Одним словом, решил на участке работать единолично, никому не доверяя. Чему ты тогда научился, если не понял главного: вся сила в коллективе? Правду говорят, будто люди для тебя пешки.
— Я никогда от тебя ничего подобного не слышал, — беспомощно бормотал Ефимов.
— Так слушай, коли заслужил! Я Терехова, товарища твоего, не даром вспомнил. Условия у него легче, чем у тебя? Нет! Он настоящий директор, глава заводского коллектива, не экспедитор. И не седеет, представь себе. Терехов всегда побрит, свеж, в новом костюме — сидит в кабинете, как на именинах. И умирать не собирается — знает, что партии и государству здравые и здоровые работники нужны, чтобы врага победить. Я был у него на днях на заводе — и словно кислороду надышался. Давно ли он задание получил, а уже дает фронту боеприпасы. А тебе с кабинетом жалко расставаться, и ты сидишь в нем, когда дело твое и люди — на том берегу. Выходит, права партийная организация: снимать тебя надо с должности, не справляешься ты с ней.
Ефимов переменился в лице, губы у него задрожали, задергались:
— За что же снимать? За преданность мою?
— Одной преданности мало. С тебя спрос большой, ты — руководитель.
Залкинд провел рукой по лицу и сел. Он был взволнован и заставлял себя успокоиться. Неужели ошиблись они в Ефимове, и придется теперь снимать его с работы? Ефимов с гримасой проглотил еще один порошок.
— Запутался, сбился с правильного пути, — сердился Залкинд. — Или не видишь сам, что запутался? Прислушался бы к голосу Темкина — голос у него тихий, зато верно поставленный. Звал бы на помощь управление. Оно не за горами, и хорошая дорога теперь к нему идет. Откуда в тебе спесь? Ты даже от партийной конференции отмахнулся. Дела важные, видите ли, помешали — пятьдесят килограммов гвоздей выручал. Какой делец! Вот и не понял, что такое война!
Ефимов снова полез в стол.
— Довольно тебе порошки глотать! Другое лекарство я тебе пропишу.
Они посидели молча. Из приемной доносились голоса. Залкинд прислушивался к ним.
— Что ж мне делать-то, Михаил Борисович? — с отчаянием спросил Ефимов. — Ты убил меня совсем.
— Уж и убил! — усмехнулся Залкинд. Он облокотился на стол и посмотрел Ефимову в глаза. — Батманов, наверное, будет настаивать на твоем отстранении, и справедливо. Но я в партию тебя принимал, и мне за тебя обидно. Не хочу, чтобы ты сам себя раньше времени хоронил. Твой участок возьму под личную опеку. Попробую с коллективом тебя сдружить, посмотрю, сможешь ли ты работать в тысячу рук, а не в две. Трудиться будешь, как сейчас — день и ночь, только без порошков. Либо станешь нормальным начальником участка, либо придется тебе начинать все сначала, с рядовых плотников. Понял?
— Понял, — слабым голосом ответил Ефимов.
— Голос-то у тебя, как у Темкина стал — тихий, —- улыбнулся Залкинд. — А он что-то раскричался, слышишь? — Они оба взглянули на дверь. — Иди зови сюда людей, всех, сколько есть. Они работать хотят, нечего их держать в приемной.
Теперь Залкинд скинул с себя полушубок. Он стоял посреди комнаты, ждал людей — и они входили, неуверенные, сердитые, хмурые...
Дверь открыла сама Родионова. Она была искренне обрадована, стояла около Ковшова, пока он раздевался.
— Серафима ушла в гости. Беридзе дома, — говорила Ольга. — Но вы ко мне...
При ярком свете лампы под желтым шелковым абажуром в глаза Алексея бросилось, что хозяйка одета не по-домашнему: костюм, боты.
— Вы собирались уходить? — спросил он.
— Нет, уже нет. Но еще пять минут, и я пошла бы искать вас. Спасибо, что не забыли.
Ольга коснулась висков кончиками пальцев, — они были у нее длинные и тонкие, чуть красноватые в суставах. Она прислушивалась.
— Нельзя так нервничать, вы взвинтите себя до истерики. Давайте поговорим спокойно, трезво все обсудим.
— Вы правы. Я, наверное, доведу себя до безумия. Утром вам странным показалось, как я говорила о смерти мужа...
Сбивчиво и беспорядочно она рассказала о Константине. Они познакомились в Рубежанском медицинском институте, когда Ольга была еще студенткой, а он — преуспевающим, красноречивым доцентом кафедры невропатологии. После первой же лекции Родионов начал ухаживать за ней — настойчиво и как-то безапелляционно. После выпускного вечера началась их совместная жизнь. Были в ней хорошие дни, и сейчас она не могла бы сказать о них ничего дурного. Каким внимательным, заботливым и даже нежным мог быть Константин, когда хотел! И он сделал ее несчастной. До этого она не понимала, что бывают люди, способные обмануть самого близкого человека даже в том, что должно быть свято. Нет нужды вспоминать во всех подробностях, как она постепенно перестала доверять ему. Наконец, пришло прозрение. Полное. Это случилось в его последний приезд к ней. После ласковых и нежных предисловий Константин заговорил о белом билете. Ко всему другому он оказался и трусом.