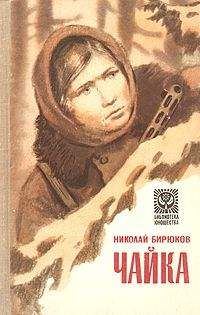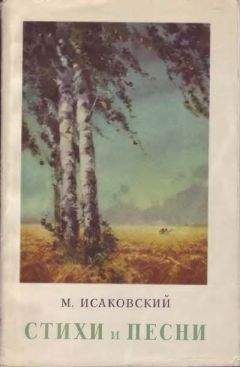Зажав в руке спички, она встала. По телу пробегала дрожь, но силы еще были и сердце горело. Василиса Прокофьевна посмотрела на Волгу, на лес и быстро, по-мужски зашагала навстречу крикам, лютой ненавистью зажигавшим кровь.
На берегу, по соседству с черным лесом и такой же черной рекой, сиротливо прижались друг к другу две молчаливые фигуры — Васька и Шарик.
Часть вторая
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Глава первая
От темной улицы веяло нежилой тишиной. Обходя большую лужу, мерцавшую возле колодца, тетя Нюша с ненавистью покосилась на пятна света под окнами школы. Дверь была чуть приоткрыта, и на улицу вырывался густой хохот.
В школе стояли немцы. В двух окнах вместо стекол желтели фанерные листы, в других дыры были заткнуты ватниками и тряпьем.
Тетя Нюша вздрогнула: ей почудилось, будто сквозь пьяный хохот солдат прорывался судорожный женский плач. Вот опять… Багор выскользнул из ее рук, и ведро, прогромыхав по выступам бревен, звучно шлепнулось в черной глубине колодца.
Она, казалось, и не заметила этого. Оставив ведро в колодце, перешла дорогу и прильнула к крайнему, наполовину застекленному окну.
…В железной круглой голландке жарко горели дрова. Отблески пламени ложились на пьяные лица солдат, сидевших на обломках парт и на подоконниках.
Лейтенант Август Зюсмильх без сапог, в одних теплых носках сидел на столе, возле разбитой классной доски, и, целясь из револьвера, кричал:
— Встава-ать!
Солдаты хохотали, хлопали в ладоши…
Уцепившись за наличник, тетя Нюша встала на кирпичный выступ фундамента: на грязном полу, закиданном листками разорванных книг и тетрадей, в одной рубашке лежала старуха — худые ноги ее были оголены, по острым трясущимся плечам разметались седые волосы…
«Кто же это?»
Офицер повернул голову к рыжему солдату, которого на селе все звали «лохматым Карлой»; тот ухмыльнулся, схватил старуху за волосы и поставил на ноги.
— Барин, ради седин моих…
Тетя Нюша испуганно перекрестилась: голос был знакомый.
Солдаты, толпившиеся у стола, перебежали к окну, и она не смогла увидеть лица старухи.
— Грех со старухой такое делать, барин! — с плачем рвался на улицу крик. — Пощади!
— Плясать! — загремел голос офицера. — Айн!
В окне осталась только одна узкая светлая щель, и тетя Нюша прильнула к ней, но ничего не увидела.
— Цвай! — отсчитывал офицер.
Грохнул выстрел, и на миг стало тихо-тихо, потом скрипнула дверь, и в сенях раздалась хриплая песня:
Ich warte dich
In dieser schonen Nacht…
На крыльцо вышел немец в одном нижнем белье, молодой, курносый, с всклокоченными рыжими волосами. Тетя Нюша тихонько попятилась к колодцу. В школе по-прежнему было шумно, а женский голос уже не слышался.
— Отмаялась, — прошептала тетя Нюша. Задрожавшими руками она достала ведро, и когда поднимала на плечо коромысло, оно почему-то показалось ей непомерно тяжелым.
Моросил дождь.
Дома по обе стороны дороги стояли безмолвные и черные, и окна их, как глаза мертвецов, были наглухо закрыты ставнями. Но тетя Нюша знала, что это безмолвие ночи — не сон. Люди с наступлением темноты только притихают, а глаза их открыты и уши насторожены.
У ворот своего дома она столкнулась с Фролом Кузьмичом.
— Мать не видела, тетя Нюша? — спросил он. — Парнишка сказывает, еще засветло ушла по соседям соли разыскать…
«Вот кто!.. Ее голос…» — пронеслось у тети Нюши в мыслях. Отвернувшись, она наклонила голову.
— Нет, Фрол Кузьмич, не видела.
— Ума не приложу, куда девалась старая. — Он задумчиво поскреб тронутую сединой бороду. — А ты слышала?.. Знаешь, почему вчера шум-то был?
— Ну?
— На Ольшанском большаке партизаны им жару задали.
Поставив ведра наземь, тетя Нюша жадно уставилась на него глазами.
Партизаны — это единственное светлое, что осталось в окружающем мраке. На прошлой неделе они перебили немецкий гарнизон в Головлеве, а в Больших Дрогалях повесили старосту, продавшегося немцам. Дня не проходит, чтобы из села не дошел слух: там подорвались грузовики на минах, в другом месте немцев обстреляли… Слушаешь такое, и сердцу вроде легче: «Вот вам, проклятые! Не одни мы, есть кому взыскать с вас, аспидов, за слезы наши и муки».
— Откуда вызнал-то?
Фрол Кузьмич осмотрелся по сторонам и зашептал:
— С приятелем повстречался, с Курагиным Семеном. Он кучером при рике работал. Знаешь? Так вот, — говорит, — боле полсотни немцев положили. И, — говорит, — Катерина Ивановна — Чайка наша — там была.
— На большаке? — взволнованно перебила тетя Нюша. — Ну как она? Поди, похудела?
— Об этом не расспросил.
— К нам бы, родные, пришли… Вот этих бы, что в школе… И для нас праздник бы…
— Придет черед и до этих! Лексей Митрич — это такой человек, все в свой черед справит, не упустит. — Фрол Кузьмич опять поскреб бороду. — Так, стало быть, не встречала мою старуху?
Тетя Нюша посмотрела в сторону школы.
«Не к чему говорить, — решила она. — Мертвой теперь все равно, а он сам-то горяч: увидит — кинется и на свою голову гибель накличет».
— Небось, у кого-нито заночевать осталась. Куда ей деться? Не иголка…
Они попрощались, и тетя Нюша прошла в калитку. Глаза ее привычно, но чуждо скользнули по двору.
Дверь хлева, сорванная с одной петли, раскачивалась и скрипела, точно плакала, а у курятника совсем двери не было: немцы сорвали ее и уволокли на растопку.
Тетя Нюша отвела взгляд от пустого курятника — теперь душа ни к каким хозяйственным делам не лежала. Из дома слышался пискливый плач ребенка. «И сам не жилец, и на мать сухоту наводит», — толкнув дверь, горестно подумала тетя Нюша.
На кухне чадила коптилка, смутно освещая рассыпанную по полу гнилую картошку. Дочь Клавдия в одной рубашке стояла в горнице возле люльки и злым голосом пела:
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Стану сказывать я сказку,
Песенку спою.
На печке, обнявшись, спали Нинка и Гришка. Ванюшки все еще не было.
«Вот без ума баба», — поставив ведра на пол, выругала себя тетя Нюша за то, что отпустила сына в лес за хворостом: сама бы могла сходить.
Из мыслей ее не выходила мать Фрола Кузымича, пристреленная Зюсмильхом.
— Ох, господи, господи…
— Устала, маманя? — тихо спросила Клавдия.
— Нет, так…
Потревоженный разговором, ребенок запищал громче.
— Молчи! — со злобой крикнула Клавдия и, точно сама испугавшись своего крика, зашептала: — Да замолчи же, а то вот немцам выброшу.
Тетя Нюша взяла коптилку и прошла в горницу. Увидев свет, ребенок притих. Личико у него было сморщенное, с землистым оттенком, а воспаленные глазенки смотрели с осмысленной тоской; и от этого похож он был на игрушечного старичка.
— Не помирает… А где сил взять смотреть на него, такого? — Клавдия смяла рукой пустые груди. — Все одно как тряпки. И губ ему не смочишь…
Она стояла худая, с ввалившимися щеками. На вид ей можно было дать лет тридцать пять — сорок, а на самом деле осенью двадцать пятый год пошел. И самой ей теперь не верилось, что всего каких-нибудь полгода назад она была первой хохотуньей на селе, первой песенницей. Пятипудовые мешки носила на спине легко, как игрушку. Одеваясь, с трудом стягивала тесемки сарафана на высокой груди… А с какой радостью прислушивалась к первым толчкам под сердцем, когда зашевелился там ребенок! Как хотелось, чтобы это был сын! И вот он лежал перед ней, тускло озираясь голодными глазами.
— Где взять силы, маманя?
Тетя Нюша угрюмо вглядывалась в личико ребенка: носик его заострился и стал как восковой, — смерть в изголовьях стояла.