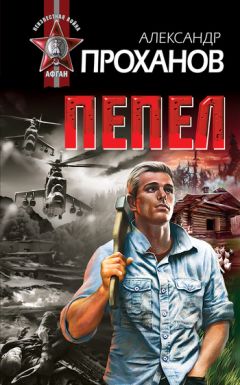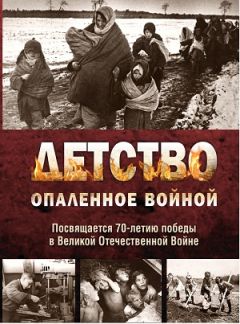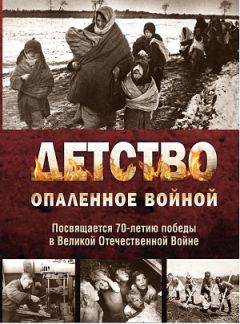Боль истекала из матери, по незримым капиллярам проникала в него, отравляла, причиняла страданье. И он не мог скрыть этого страданья. Морщился, отворачивался, пытался ее перебить, пытался увести прочь от невыносимых переживаний – рассказами о том, как видел в лесу лося, как выбежала на поляну лисица, как великолепен морозный зимний лес. Но это не помогало. Его страдание возвращалось к матери, умножалось, переполняло ее, устремлялось обратно к сыну по невидимым, соединяющим две родные души сосудам.
– Потом наступило просветление. Кончились эти ужасные аресты и гонения. Я поступила в Академию художеств и там оказалась среди замечательных друзей, молодых энтузиастов, людей новой эры, новой эпохи, которая искупала все недавние траты и лишения. Наши поездки на стройки, на Урал, в Сталинград, в Ростов. Мы расписывали Дворцы культуры, участвовали в праздниках по случаю пусков огромных заводов. Мы увлекались Пастернаком, Мейерхольдом. Всем курсом ходили на субботники, сажали на пустырях сады. Я встретила твоего отца. Это были счастливые дни. Он заканчивал аспирантуру, писал диссертацию по истории средних веков. Я готовила мой диплом. Родился ты. Я говорила твоему отцу, что хочу иметь много детей во искупление всех наших фамильных трат, чтобы род наш не иссяк. И тут война. Все мои однокурсники пошли на фронт, и мало кто вернулся, да и то слепыми или калеками. У твоего отца была бронь, она защищала его от фронта. Он мне сказал: «Я не могу ходить по улицам, здоровый, свежий, в красивом галстуке, когда все мужчины воюют. Я пойду добровольцем. Я не стала его удерживать, умолять. Сказала: «Иди». Перед отправкой на фронт он пришел домой, держал тебя на руках, целовал, смеялся, а потом сказал: «Я знаю, меня убьют»…
Ее губы задрожали, как всегда, когда она вспоминала отца. И эти дрожащие губы причиняли ему невыносимую боль. Хотелось кинуться к ней, целовать эти темные складочки у рта, эти седеющие волосы, эти увядающие, некогда прекрасные руки с золотым кольцом, в котором мерцал бриллиантик. Было странно и мучительно думать, что где-то в бескрайней сталинградской степи, под сугробом, в промороженной братской могиле лежат безвестные кости отца. И где-то в этих костях таится убившая его пуля, и мертвый отец слушает их сейчас, то ли из той степи, то ли из этого смуглого закопченного потолка с черными глазами суков. И от этого растерянность, непонимание, оцепенение, неодолимое горе.
– И снова кругом несчастье. Похоронки, рыдания… Враг наступает. Нас направляют в эвакуацию. В Чебоксары. Переезд, бомбят эшелон. Мы с бабушкой хватаем тебя, закутываем в одеяло, куда-то бежим под бомбами. В эвакуации голод. Бабушка ходит на рынок, продает фамильное серебро. Режет на куски свадебную скатерть, выменивает на масло и молоко для тебя. Твои болезни, бред, страх, что ты умрешь. В центре города висит плакат – русская мать держит у груди ребенка, а фашист направляет на нее окровавленный штык. И я каждое утро, когда шла на работу, смотрела на этот ужасный плакат. Мы с бабушкой решили устроить тебе новогодний праздник. Я раздобыла елочку, сделала из лоскутков и бумажек елочные игрушки. Бабушка сшила из клеенки кобуру, а я вырезала из деревяшки наган, и ты был счастлив, дул на маленькие розовые свечки, играл с деревянным наганом. А через неделю пришла похоронка, твой отец погиб смертью храбрых под Сталинградом, у хутора Бабурки…
Он был беспомощен. Ему казалось, что мать умышленно причиняет ему боль, чтобы отраженная, эта боль вернулась к ней. И умножила ее страданья. Эти страданья были ей необходимы, были подтверждением всей ее несчастной, в страхах и лишениях жизни, в которой краткое счастье сменялось бедой, и он, ее сын, не сделал ее жизнь счастливой, продлил череду ее страхов и бед.
– Мои вдовьи годы. Мои военные командировки. Испепеленные города, жуткие печные трубы сожженных деревень. По горизонту пожары, канонада. Я мечтала строить Дворцы культуры, проектировать университеты и стадионы. Изучала античность, готику, классицизм. А в этих разгромленных городах я проектировала морги, кладбища, бани. Вот они, мои шедевры. Мы с бабушкой растили тебя, выхаживали, вынашивали, радовались твоим школьным успехам. Я ради тебя не вышла второй раз замуж. Думала, будет ли этот человек хорошим тебе отцом. Ты поступил в институт, окончил с красным дипломом. Ты привел к нам в дом Марину, которую мы приняли, смотрели на нее как на твою будущую жену. И вот чем все кончилось! Ты убежал от нас, бросил нас, предпочел эту убогую избу, эту скудную жизнь. И мои страхи продолжаются, мои слезы не высыхают. За что мне такое?..
– Мама, – воскликнул он, – мама, ну зачем ты мучаешь и меня, и себя? Ну, хочешь, я брошу все, вернусь домой и буду домашним сыном, смиренным домоседом, ученым кротом, перерывающим рукописи и фолианты. Но пойми, у меня другая судьба! Другой зов, другое предназначение! Может быть, я совершаю ошибку. Может, меня кто-то поманил, чтобы потом бросить, и я, жалкий неудачник, с повинной головой притащусь обратно в наш дом. Но позволь мне испытать себя, позволь мне поверить тому таинственному голосу, что позвал меня в странствие!
Он восклицал это страстно, слезно, боясь подступивших рыданий. И на этот вопль в коморку заглянула бабашка:
– Татьяна, перестань его укорять. Петенька знает, что делает. Он религиозный человек, и Бог его не оставит. Вот увидишь, наступят дни, когда мы станем гордиться нашим Петенькой, и ты скажешь: «Он был прав, наш милый, наш добрый мальчик».
Она подошла и поцеловала его в лоб. Он благодарно целовал ее вязаную домашнюю кофту. Был умилен, растроган, с отступившими от глаз слезами.
– А что о Петрухе горевать, – вторила бабушке тетя Поля. – Вот попривыкнет, срубит себе дом пятистенный, благо лес ему в лесничестве выпишут. Женится, народит детей, и глядишь, вы к нему из Москвы переедете. Что в ней хорошего-то, в Москве? Одна толкотня.
Мать утихла, сидела, ссутулив плечи. Белка над ее головой тихо качалась в потоках теплого воздуха. Мерцал на золотом колечке бриллиантик.
После чаепития тетя Поля и бабушка остались сидеть за столом, и бабушка строго наставляла тетю Полю, как следует той ухаживать и заботиться о ее возлюбленном внуке. А Суздальцев с матерью оделись и вышли в сверкание морозного предвечернего солнца. Суздальцев показывал матери деревенскую окрестность.
Они шли по дороге. Суздальцев держал мать под локоть. Дорога была белой, голубой, льдистой. В стеклянной глубине переливались золотые и серебряные нити, и казалось, дорога ведет их в билибинское сказочное царство, которое им уготовано в награду за все долготерпение. Река текла черная, незамерзшая, в белых волнистых берегах, с черными воронками солнца. Прибрежные ивы, пронизанные лучами, казались плетеными корзинами, внутри которых блестели округлые стеклянные фляги. Поле было розоватым, мерцающим, и далеко, под недвижными зеленоватыми небесами шел путник, далекий, с неразличимым лицом, но тайно родной и любимый. Посылал им из снежных пространств свое сокровенное «люблю». Церковь, черная, закопченная, со щербатым кирпичом, сквозила пустыми лазурными проемами, где, казалось, застыл звук звонивших колоколов. На черном кривом кресте горели драгоценные золотые крупицы.
Мать любовалась, восхищалась. Ее щеки порозовели, и в глазах появилась мечтательная голубизна:
– Может быть, правда, ты построишь в деревне дом. Дядя Коля так мечтал иметь дом в деревне. Найдешь себе простую милую девушку. У вас будут дети, и я приеду к вам нянчить детей и любоваться этой красотой…
Она мечтательно смотрела на розовое поле, где уже не было ни путника и что-то тихо и благоговейно светилось.
Он провожал маму и бабушку на автобус. Подсаживал на скользкую ступеньку. Смотрел, как удаляется по сумеречной дороге старенький автобус, и кто-то махал ему сквозь замороженное стекло…
Когда стемнело и на улице отшумели все грузовики, трактора и сани, отгудели голоса и отстучали сапоги подвыпивших скотников, шоферов и трактористов и в черных избах зажглись желтые незанавешенные окна, Суздальцев завернул в сельский клуб. Большое, нелепое, перестроенное здание было когда-то поповским домом. В нем стояла высокая железная печь, деревянные скамейки. Над сценой висели кумачовые транспаранты, объявлявшие кино самым важнейшим в мире искусством. Иногда здесь прокручивались фильмы, собиравшие необильных, ерзающих на скамейках сельчан. Проходили совхозные собрания. Давались концерты заезжими артистами. Но в обычное время клуб бывал почти пустым. Слабо натопленная печь не грела. Завклубом, унылый болезненный мужик, крутил на проигрывателе десяток поднадоевших танцевальных мелодий. На них сходились два-три неженатых, хмельных парня, две-три подраставшие, наливавшиеся соком девицы и несколько шустрых девчонок-малолеток. Малолетки начинали красить ногти строительным лаком, танцевали друг с другом и вдруг, прыская смехом, убегали куда-то, если к ним подкатывался тракторист Леха, вечно хмельной, в кирзовых, с завернутыми голенищами сапогах.