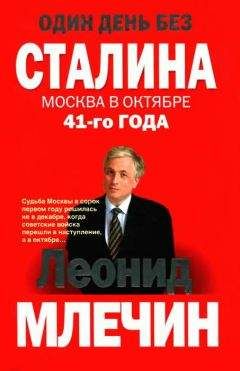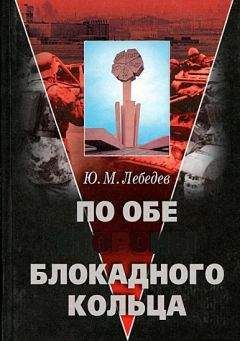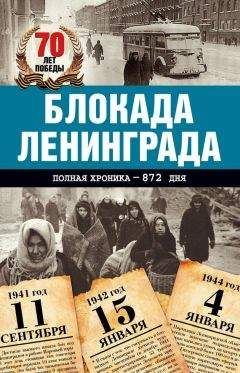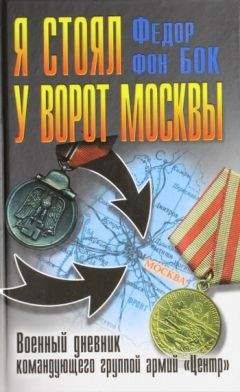Мирная жизнь кончилась в тот воскресный день, когда она, устроившись на подоконнике, с интересом смотрела на внезапно возникшую на улице беготню. Все куда-то бежали, спешили. Родителей дома не было – уехали в Удельную с патефоном в компании друзей. Несмотря на бронь (работал в автопарке), папа сразу отправился на призывной пункт в военкомат, чтобы влиться в ряды защитников Ленинграда. Позже ему довелось даже возить под обстрелом на передовой Г.К. Жукова. Получив ранение, с поврежденным глазом, отец после госпиталя снова вернулся на фронт.
Мама до войны шила обмундирование для военно-служащих. Эту работу выполняла она и в блокаду – защитников города надо было одевать и зимой, и летом, только теперь приходилось шить не в мастерской, а дома. Рая помогала ей и в портновском деле, и в доставке готовой одежды: зимой на саночках, летом тащили тяжелые узлы на себе.
Во время обстрелов дом содрогался от взрывов. Рядом – два крупных объекта: завод имени Козицкого и промышленная гордость Ленинграда – Балтийский завод. Снаряды дальнобойной артиллерии рвались и на заводской территории, и в жилых кварталах.
Летом в их двор пожаловала незваная «гостья» – фугасная неразорвавшаяся бомба; образовалась глубокая яма. Саперы, видимо, вывернули взрыватель, но надо было расширить яму, чтобы поднять наверх бомбу, и подростки во главе с управдомом принялись окапывать «чушку». К таким заданиям ребята относились уже как к делу обыденному – во фронтовом городе опасность подстерегала на каждом шагу. Невозможно было привыкнуть только к голоду, особенно в том возрасте, когда организм должен развиваться, расти…
В студеную зиму 1941 года мама слегла, не могла встать – и Рая, обвязанная крест-накрест платком, в пять утра отправлялась к булочной занимать очередь. А получив брусочек хлеба, заворачивала его в приготовленный мамой лоскут, прятала за пазуху и отправлялась по темной пустынной улице домой. Впереди был бесконечный день в выстуженной, прокопченной дымом «буржуйки» комнате… В школе с ребятами было веселее. Да, занятия не прекращались и в ту зиму – приходили, кто мог. Уроки велись в подвале одного из зданий завода имени Козицкого. В блокадном Ленинграде в школах были размещены госпиталя. Там, в школе, ребятишкам давали по тарелке дрожжевого супа.
С приходом весны город зазеленел, ожил – взрослые и дети потянулись искать «подножный корм». Рая вместе с василеостровской ребятней обычно отправлялась на пустошь, где сейчас стоит гостиница «Приморская». Там можно было запастись крапивой, снытью, лебедой. Их «кормилица» – шестилитровая кастрюля – наполнялась рубленой травой – такие были «щи», без крупинки. По детским талонам полагалось немного крупы, но в магазинах было пусто. (Эти талоны хранит Раиса Николаевна Максимова и сейчас – как память о тех блокадных днях.)
Что было потом? Медицинское училище, работа, снова учеба – теперь уже в медицинском институте, – и направление с дипломом врача в Мурманскую область. После работы на Севере – возвращение в Ленинград, многолетний труд в родильном доме на Щорса, 13. Не одна сотня малышей прошла через ее руки – заботливые, ласковые, помнящие и невесомость блокадного хлебного пайка, и леденящую январскую стужу… Пожалуй, никто, кроме Раисы Николаевны, и не знает теперь, что во дворе дома номер пятнадцать на Малом проспекте была эта глубокая яма и на дне ее – «чушка», начиненная взрывчаткой.
Кроме известной надписи на одном из зданий Невского проспекта, сохраненной для потомков со времен войны, куда возлагаются цветы к памятным датам, в городе, к сожалению, мало подобных напоминаний о великом подвиге ленинградцев. Подвиге, который 900 блокадных дней и ночей свершался мужеством, стойкостью, волей к победе всех его жителей – и взрослых, и детей.
Не выпади в грозном 1941-м великое испытание нашей Родине, он, как и тысячи его ленинградских сверстников, 1 сентября отправился бы с родителями в школу на праздничную линейку. Впервые сел бы за парту, открыл новый букварь… Ничего этого в его жизни, восьмилетнего мальчишки с Измайловского проспекта, не было и уже никогда не будет. Детство не повторяется, павшие на смертных рубежах, как его отец, никогда не переступят родимый порог, не прижмут к шинели своих близких. У стен Ленинграда осенью 1941 года на юге, севере, востоке и западе стояла трехсоттысячная вражеская орда. Не стояла – рвалась стереть город с лица земли. В плане «Барбаросса» уничтожение города на Неве значилось как «неотложная задача». Стволы дальнобойных вражеских орудий методично били по городу, квартал за кварталом. Даже Дворец пионеров и школьников, знаменитый Аничков дворец, был помечен на немецких картах как «Дом юных большевиков» и подлежал уничтожению.
Занятия в школе были, только не в светлых классах с большими окнами. Томительные часы ребятишки проводили в подвалах бомбоубежищ. И свои первые буквы Эдик Манин вывел не в школьной тетрадке, а на рыжей бумаге амбарной книги… Вместо воскресных походов с папой в Парк культуры, на карусель, в цирк – бесконечно долгие вечера с мамой и бабушкой в темной комнате, при свете коптилки. Нередко на ночевку оставались знакомые, оказавшиеся из-за бомбежек без крова.
Как верили они – и взрослые, и дети, – что война ненадолго, что все закончится до зимы… С этой надеждой он провожал отца на Садовую – к общежитию, где был сборный пункт призывников. Вскоре раненый (до линии фронта можно было добраться пешком) отец оказался на Петроградской, в госпитале. К нему в день выписки они и поехали с мамой. И возвращаясь уже втроем, попали на Кировском мосту под небывалую бомбежку. Вместе с другими бежали по мосту к Марсову полю, где яростно били зенитки.
После госпиталя отца снова отправили на передовую. С ним виделась семья в клубе, на Измайловском, 7, где формировались воинские части…
Впереди была мучительная зима 1941-го, которую пережили далеко не все ленинградцы. Он, девятилетний мальчишка, уцелел, дождался тепла новой весны. Снова стал посещать школу. После уроков, немного подкрепившись в школьной столовой, куда мама сдала его карточку, вместе с мальчишками отправлялся к Никольскому собору. (Мама с утра до ночи на работе, бабушки уже не было в живых – как и большинство его сверстников, он был предоставлен сам себе.)
Они шли – ленинградские мальчишки – по родному, так изменившемуся за блокадную зиму городу… Впереди ребята постарше, Аракчеев с мячом, следом их стайка – Эдик и дружок его неразлучный Серёжка Савин. Сергея ставили на ворота, Эдик держал защиту, Аракчеев – в нападении. Разогревшись, сбрасывали с себя одежку: Эдик – видавший виды ватничек, Сергей – перешитый отцовский морской бушлат. Как могли они гонять мяч по лужайке, прорываться к воротам соперников, забивать голы, когда силенок в их истощенном голодом теле оставалось только-только! Великая вера в торжество Победы, в торжество жизни билась в их детских сердцах – та вера, что поддерживала их отцов, старших братьев, стоявших непоколебимо в окопах Ленинграда.
Он ждал отца в 1942-м, 1943-м, и только в 1944-м, когда советские войска погнали захватчиков от стен Ленинграда, они с мамой узнали, что красноармеец Манин, один из многих тысяч защитников Невской твердыни, пал смертью храбрых в феврале 1942 года и похоронен в Погостье, под Ораниенбаумом. Никогда не расскажет Эдик отцу, как одолели с мамой блокадные зимы, как был принят в детский хор Кировского театра, как выступал с другими юными артистами в госпиталях, как в январе 1944-го били орудия главного калибра кораблей, стоявших на Неве, и они, вездесущие мальчишки с Измайловского, бежали смотреть эти могучие залпы освобождения.
Деревья у Никольского собора, где гоняли они мяч блокадной весной 1942 года, стоят и сейчас – летом зеленые, в звоне голосов птиц, зимой под пластами сырого снега. И стоит тот же дом на Измайловском, 3, возле которого он, блокадный мальчишка, ждал и ждал папу: не мелькнет ли со стороны Фонтанки знакомая пилотка, шинель, не подхватят ли его отцовские руки, поднимая от земли ввысь…
Рос он в докторской семье – Владимир Иванович был талантливым хирургом, мама, Александра Петровна, опытным терапевтом, – но себя Юра в будущем видел только художником. С детства тянулась рука к альбому, краскам, карандашам. Учился в средней школе при Академии художеств, в 1941 году закончил четвертый класс и готовился в пятый.
В субботу, 21 июня, поехал с мамой на дачу в Солнечное; только один раз переночевали и вернулись обратно в Ленинград. Владимир Иванович сразу убыл по назначению, куда направил военкомат. Брат Лёва в свои неполные 18 лет записался добровольцем в ополчение. Двенадцатилетний Юра и мама остались вдвоем. После советско-финляндской войны основная угроза Ленинграду виделась с севера – там стояли воинские части, возводились укрепления. Южное направление считалось безопасным – туда, в основном в Новгородскую область, началась эвакуация детей. Отряд, в котором находился Юра, оказался в районе Боровичей. Обстановка ухудшалась стремительно, начались налеты немецкой авиации. С одним из последних эшелонов, которому удалось пробиться сквозь завесу бомбежек, он вернулся в Ленинград.