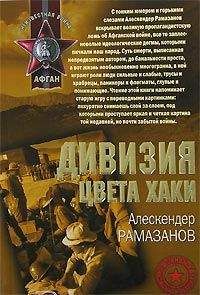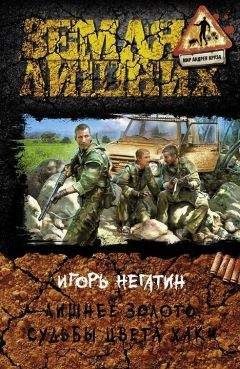Ознакомительная версия.
– Вы кто по должности?
– Да я уже объяснял, десять раз. Я редактор газеты, журналист... Корреспондент. Буду ехать назад – эти пленки можете смотреть отснятые, проявленные.
В накопителе было сыро. Утренний холодок давал о себе знать. По углам уже собирались компашки, булькала в пластиковые стаканчики родимая, пахло свежими огурцами и военным духом.
В редакцию я добрался к вечеру. Нас посадили на промежуточном аэродроме. Из салона выпустили, но отходить от самолета не разрешили. На страже этого дела стоял пограничный наряд. Долго ждали, пока в самолет не занесли несколько длинных ящиков. Возить всякую экспериментально-взрывоопасную хренотень вместе с людьми в Афгане было в порядке вещей. Каждый стремился выполнить свою задачу.
Я попал с самолета за стол. Будто бы и не уезжал. В редакции был очередной наплыв гостей из Талукана. Сашка – переводчик, седовласый таджик (в Союзе он был начальником детприемника), Иван – опер из Тулы, еще двое, ранее мне не известных, но с удивительно интеллигентными лицами. Гостей принимали Махно и Куюня. И стол был не бедный, значит, с собой привезли гости. У нас ведь всегда было шаром покати.
Климов-Куюня аж взвизгнул от радости. Обнял меня пухлыми, бескостными ручонками, чуть не прослезился: «Командир! Наконец-то приехал. А мы тут уже...» Сели, выпили. И я разговелся. Конечно, умеренно. Говорили врачи, что с год нельзя ни пива, ни водки, да и курить поменьше. Ну как тут бросишь?
Разговорились. Помянули погибших. Вернее, я один. Они уже поднимались на второй тост. (Он тогда был вторым в Кундузе.) Слава богу, все, кого знал близко, живы-здоровы на данный момент.
Куюня с гордостью показал газету с цветным силуэтом крейсера «Аврора» во всю страницу. Надо же, до цветной печати дошли. В три краски ноябрьский номер сделали. Молодцы! Тут я заметил, что Махно как-то криво усмехается и что-то пытается мне показать своими чистыми глазами по поводу Куюни: мол, не увлекайтесь с похвалой, командир. Ладно, разберемся, не при чужих... Так вот сидели... Тут еще разохотился поддатый Куюня:
– Командир, помнишь обещание? Когда приедешь, то меня отпустишь в гарнизоны. Вот есть возможность в Талукан...
– Я свое слово держу. Хоть завтра, если хозяева берут.
– Ой, спасибо, – верещнул Куюня, приобнял меня на радостях. Тонким одеколоном от него пахнуло.
Я почувствовал легкий, но резкий толчок в бок. Иван-опер явно хотел поговорить отдельно. Что ж, пора пойти проветриться. Вышли за палатку.
– Саня, не посылай к нам корреспондента, – попросил Иван. – Тут такое дело...
Я хохотнул, не предчувствуя беды:
– Что, подрался с кем из ваших?
– Нет. Это бы милое дело. Тут хуже.
– Да что хуже, Иван. Говори, ты же меня знаешь, за всех них мне отвечать.
– Вот то-то. «Голубой» твой Куюня. Пидор.
– Это как?
– Да просто. У меня глаз наметан. Я же в зоне шесть лет отслужил. Да и вообще... наш контингент. Короче, вот такие дела. Нельзя его к нам. Ребята не поймут.
– Да как ты узнал, докажи, – не сдавался я.
– Дней десять назад мы были у тебя. Выпили. Смотрю, глазки строит. Я отлить вышел. Он за мной. Задом крутит, ну все повадки... Я ему прямо: «Тебя что, в очко трахнуть?..» А он мне: «Зачем? Я в рот лучше любой женщины возьму». Саня, ты не огорчайся, но его наши ребята давно раскусили. Понимаешь, опера, они знают эти их приметы. По глазам, по походке... Короче, его там прибьют. Не отпускай...
– Нет, Иван. Не отпущу. А тебе спасибо. Махно знает?
– Знает. Но не решается тебе сказать.
– Хорошо. Буду принимать решение.
– Да, вот еще. У тебя солдаты, молодые. Ты у них поспрашивай. Ну, бывает... Дело это особое, прилипчивое. Ну, ты понимаешь, все условия здесь есть, как в зоне... Бывает, командир.
Бывает. Но, бля, почему в «нашей хате»? Что делать? Пойдет слава – не отмоешься. Надо же, в редакции свой пидор и минетчик.
Нет, вы поймите правильно. Я все эти штучки с женским полом любил и за это женщин особо уважал и признателен до сей поры. Это их прерогатива. Но он же мужик!
Все. Устои рушились. Слов нет. Что делать с этой заразой? Тонкая перегородка... Солдаты, восемнадцать лет. А ведь он офицер! Что за херня в голову лезет... Убрать. Любым путем ликвидировать.
Утром вдвоем с Махно мы держали «военный совет» по делу «петуха» Куюни.
– Игорек, представляешь, слава какая пойдет?
– Уже идет, – «утешил» меня Махно. – Он тут одного прапора придурковатого к себе таскает и в койку с собой укладывает. А тому чего? Он не против...
– Значит, так. Иди к солдатам и осторожно расспроси, не приставал ли к ним корреспондент-организатор со всякими странностями. Не щупал ли чего у них, ну и все такое...
Махно ушел. А я в совершенной прострации уселся за столиком во дворе. Странное дело... Я стал вспоминать все случаи из жизни, когда сталкивался с гомиками. Тут появился Куюня и начал мотать душу расспросами по поводу, когда я его отпущу в Талукан.
– Пока нет такой возможности. Вот что, давай в политотдел. Может быть, кто летит в наши полки. К вечеру возвращайся. Ну, завтра, в крайнем случае. Возьмешь информацию...
Мне нужна была передышка. Слишком много всего и сразу.
Итак. Пацаном я видел красящих губы, завитых и в педикюре мужиков с морщинистыми лицами и какими-то странными движениями. Это была середина пятидесятых. В основном они слонялись в порту и в городском саду у моря и пересыльной тюрьмы.
В обиходе, среди пацанов, самым страшным ругательством и угрозой была фраза: «Я тебя в ж...»
Было мне лет четырнадцать, когда я гонял и едва не до смерти пришиб булыжником одного пидора. Он, напоив моего непутевого двоюродного братца (горе всей семьи на многие годы), пытался с ним совокупиться. Тут вспоминается, что родственничек и сам побывал на зоне и все подлечивался от какого-то геморроя.
В институте я пытался чему-нибудь доброму научиться у одного молодого преподавателя, прошедшего хорошую школу гистологии в Питере, а он стал проявлять склонность к другой столичной школе. Между прочим, я зря тогда в «узком кругу друзей» проболтался о странностях этого кадра. У него были могущественные родственники, по провинциальным меркам. Вот, назови пидора пидором – и получишь «волчий билет». Сильное у них братство!
Все остальное было из книг. И все укладывалось теоретически в схему, даже оправдательную. Вот, в Спарте гомосексуальные пары ставили в первые ряды в бою. Они дрались, как звери, защищая друг друга. Это хорошо. Но... пусть у других эта традиция с мальчиками процветает.
Пришел Махно. Худшие опасения подтвердились. Не успел он задать солдатам вопрос, как они дружно заржали. Черт...
– Его надо убирать, – сказал Махно.
– Надо. Но как ты себе представляешь перевод или увольнение лейтенанта, который три месяца не отслужил?
– Командир, пойдем доложим Игнатову.
По пути решали, как изложить ситуацию. Имейте в виду: на дворе 1981 год. Еще жив (вечная память) Леонид Ильич Брежнев, в УК РСФСР есть и будет еще долго статья за мужеложство. А тут мы со своими гомоновостями к комиссару.
Игнатов оторвался от писанины, глубоко затянулся сигаретой, сказал:
– Ну, излагайте. Что это вы вдвоем?
Махно, паразит, отступил за мою спину и что-то промычал: мол, слово командиру.
– Товарищ полковник. Докладываю, что у нашего корреспондента появились странные наклонности. Он... проявляет нездоровый интерес к солдатам. Ну, есть у нас жалобы, что он гомосексуалист. Устные заявления.
– Что-то я не пойму, – воззрился на меня Игнатов. – Какой нездоровый интерес? Ну...
Тут Махно (о герой! О безумство храбрых!) совершил подвиг:
– Он – «петух», товарищ полковник. Он х...й сосет.
О-о-о! Надо было видеть Игнатова. Он – воплощение мужской силы, и кличка у него Вепрь ведь недаром! И вот в его кабинете звучат такие слова в адрес офицера политотдела!
Его политического отдела!
Трансформация была такова: из медно-красного полковничий лик стал багрово-сизым.
Я оробел.
Игнатов увеличился в объеме раза в полтора.
И я услышал голос Зевса:
– Убрать. Немедленно. Сегодня. Вот стоит самолет. На нем. В Союз!
– А паспорт? Нам не дадут.
Игнатов схватил трубку:
– Консула мне соедините. Так. Ты меня слышишь? Сейчас к тебе придут офицеры из редакции – выдай паспорт на Климова... Что? Я тебе – не основание, морда чернильная?
Итак, приказано было соорудить командировочное удостоверение в Политуправление ТуркВО сроком на десять суток, а потом по телефону все объяснить.
Мы вымелись из кабинета с великим облегчением и совсем не по-уставному. Махно остался в отделе готовить предписание, а я поплелся в штаб тыла к консулу.
Консул – солидно звучит. Но в дивизиях эту историческую миссию выполняли прапорщики: в основном они визировали смерть на территории чужого государства. Свадеб и рождений здесь на моей памяти не было. Не Кабул... Там случалось. Дивизионный «Консул-смерть», долговязый, с дуринкой в глазах прапорщик, поинтересовался:
Ознакомительная версия.