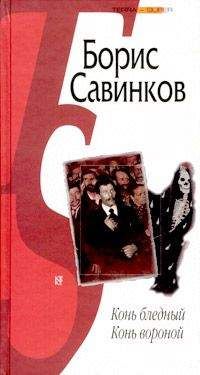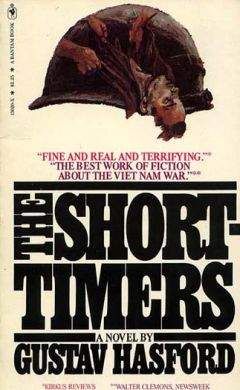Салага сглатывает слюну, кивает. «Ай-ай, сэр». Вот сейчас он точно напуган до усрачки. Он боится меня, боится гранаты, боится всего, всех и вся на планете.
Говорю ему: «Как появится Бледный Блупер, 60-й не применяй. Гранату кидай. Или вызывай артиллерию. Хоть все здесь гранатами засыпь, много-много гранат кидай. Когда стоишь на посту, сначала кидай гранату, а про уставные оклики забудь. Всегда будь охереть как начеку, никогда не расслабляйся. Но 60-й не применяй. Трассеры 60-го выдадут твою позицию».
Но Салага меня не слушает. Его ум другим занят.
Внизу, в полосе заграждений отделение морпехов выходит в ночной дозор. Кто-то запускает многозарядную осветительную ракету, и пять пылающих зеленых шаров прекрасным салютом взмывают вверх и искрами опадают вниз. Смертельно уставший командир отделения отдает боевой приказ: «Трали-вали, резко стали».
Я говорю Салаге: «Да что ж ты такой недоделанный, урод тупорылый? Долго мне еще твое имя поминать?» Без предупреждения крепко хватаю Салагу за кадык и с силой впечатываю его в стену блиндажа, вышибая из него почти весь воздух. Тот, что остался, я затыкаю, чтобы не вышел.
Я ору Салаге прямо в лицо.
— Не слышу, амеба бесхребетная. Может, поплачешь? Давай, похнычь чуток. Громко отвечай, как мужику положено, милый, а то я лично откручу тебе башку и насру промежду плеч!
Лицо рядового Оуэнса побагровело, он пытается что-то сказать. Глаза его лезут из орбит, он плачет. Он не может дышать. Он уставился на меня, и глаза его — как у крысы в крысоловке. Я наготове, чтобы в случае чего сделать ноги рики-тик как только можно. По Cалаге видно, что он вот-вот упадет в обморок и выронит гранату.
— АЙ-АЙ, СЭР! — в сумасшедшем отчаянии вопит салага. Он отпихивает меня. Сжимает свободную руку в кулак и бьет меня в лицо. Глаза его теперь черны, в моем лице, как в зеркале, он узрел себя. Он ударяет меня еще раз, уже сильнее. Вот мы и установили личный контакт, вот мы и общаемся. Зверство: вот настоящий язык, понятный в любой стране. Салага обжигает меня взглядом, в его припухших красных глазах горит чистейшая, безграничная ненависть.
Салага снова меня отпихивает, теперь он уже скалится на меня, бросает вызов — «а ну, рискни, помешай мне, стань-ка у меня на пути!», он действительно этого хочет, он уже не боится, ему уже все равно, что сделаю я, он уже немного не в себе, ему нечего терять, ничто не может помешать ему сделать всего один, маленький шаг за Грань. Кроме меня.
— Я убью тебя, — говорит он, и поднимает руку, угрожая мне гранатой.
— Я убью тебя, — говорит он, и я ему верю, потому что салага превратился наконец в очень опасную личность.
Не могу сдержать улыбки, но пытаюсь превратить ее в презрительную ухмылку. «Продолжай в том же духе, рядовой Оуэнс», — говорю я ему и отпускаю.
Выполняю резкое «кругом!» и шлепаю по мостику. Останавливаюсь. Выуживаю кольцо от гранаты из кармана. Щелчком посылаю кольцо через весь блиндаж рядовому Оуэнсу, которому удается его поймать.
— И не балуйся больше, рядовой Оуэнс.
Рядовой Оуэнс кивает, с мрачным и совершенно растерянным видом. Он подносит гранату к кончику носа и ковыряет спусковой механизм ногтем, затем начинает со всех сторон тыкаться чекой на кольце, пытаясь вставить ее обратно в гранату.
— Продолжай в том же духе, — целюсь пальцем ему промежду глаз. — Но после того, как я уйду.
Рядовой Оуэнс кивает, стоит недвижно и чего-то ждет, этакий живой морпех-памятник, памятник тупорылости, непробиваемой как броня.
Когда ты еще салага и слышишь первый разрыв снаряда, ты остаешься человеком, хотя уже и растерялся. Когда разрывается второй снаряд, ты все еще человек, хотя, бывает, и трусы уже испачкал. К тому времени, когда прилетает третий снаряд, страх, как большая черная крыса, успевает вгрызться в тебя, продираясь прямиком через нервы. Когда прилетает третий снаряд, ты, салага, уже похож на неразумного, обезумевшего от ужаса грызуна, и копаешь себе норку, чтобы туда забиться.
Салаг нужно постоянно взбадривать, покуда они не поймут, что в этой войне нам не победить — обычно на это уходит около недели.
Отойдя от сторожевого блиндажа метров на двадцать, я слышу тяжелый удар взрыва позади себя.
Проскакивает мысль: «Такая вот жопа, салага толстозадый».
Но это не рядовой Оуэнс, не взрыв его личной гранаты.
Еще один снаряд тяжело ухает неподалеку. Потом еще один.
Обстрел.
— Обстрел! Обстрел! — мальчишечьи голоса эхом разносят эту весть повсюду.
* * *
«Обстрел» — это зазубренная сталь, с визгом рассекающая воздух, она шкворчит от жара и ее нельзя разглядеть, когда, шипя и дымясь, она высматривает твое лицо.
Громко блеет приколоченный к дереву старый клаксон от двух-с-полтиной*, но слишком поздно. Кто-то сигнал пропустил. В большинстве случаев нас предупреждают секунд за десять-двенадцать, и за это время мы должны успеть прикрыть жопу. Морпехи с поста передового наблюдения на высоте 881-Юг засекают дульные вспышки на хребте Корок по ту сторону лаосской границы и радируют нам: «Арти, арти, Корок».
— БУМ.
Двигаю беглым шагом по грязи, бормоча себе под нос матерщинную хряковскую блиндажную молитву. И, как раз тогда, когда уже практически созрел для того, чтобы перегнуться в три загиба и поцеловать себя в жопу на прощанье, натыкаюсь на флагшток, на котором истрепанный американский флаг и грубо начерканное объявление: «АЛАМО-ХИЛТОН».
Ныряю туда головой вперед. Кто-то говорит: «Э, херов ты урод, убрал-ка гребаные локти с моих гребаных яиц».
Воздух в блиндаже горяч и плотен. Блиндаж провонял потом, мочой, дерьмом, гниющими ногами, мокрым брезентом, блевотиной, пивом, пердежом после сухпая, репеллентом от комаров и заплесневелым бельем. С другой стороны, с тех пор как я перешел на ночной режим, я и сам воняю как кладбищенский вор, и жаловаться я не вправе.
В блиндаже черным-черно, руку к глазам поднесешь — и ту не видно.
Голос героини эротических снов, сладчайшей блондиночки по эту сторону рая, воркует по «Радио вооруженных сил»: «Здравствуй, милый. Я Крис Ноэль. Приглашаю всех на свидание с Крис. А вот вам и песенка для первого взвода смертоносной «Дельты», которая сейчас в Кхесани: «County Joe and the Fish» с песней «I Feel Like I'm Fixin' to Die Rag»».
Мужики в блиндаже молча слушают песню с начала до припева, когда все сразу вдруг начинают орать на пределе возможностей:
Раз-два-три-четыре-пять — и за что нам воевать?
Я не знаю нихрена
Только ждет меня война
Шесть-семь-восемь — в рай попросим.
Почему-зачем? — насрать
Будем, братцы, помирать.
Когда песня кончается, кто-то приглушает радио и говорит: «Нам своя песня нужна, для кувшиноголовых. У «Зеленых шляпок» своя собственная есть, а они — дерьмо полное. Нам морпеховская песня нужна. Песня для хряков».
— Насрать на все обстрелы! — произносит кто-то и смеется.
— Ага, ага. Вот и название!
Хором раздается «Охереть!», все смеются.
Снаружи хлещет дождь из вражеских снарядов, каждый по 147 фунтов — весит больше, чем людишки, что их выпускают. Сначала слышен протяжный-протяжный свист, затем грохот — как от товарняка, валящегося под откос, потом — «бум!». Палуба содрогается, и горячие осколки злобно запевают свою гнусную припевку. Большинство снарядов только грохочут, не попадая в цель. Они гоняют всякий мусор с места на место, пугают всех вокруг, а потом становятся бумажными, и их вшивают в книжки по истории.
Прислушиваться — только время зря терять, потому что своего снаряда не услышишь, он просто попадет, и нет тебя.
Как бы там ни было, мы все уверены в правоте широко известного факта, что снаряды всегда убивают других. При обстрелах всегда убивает других. Нас эти снаряды еще ни разу не убивали, никогда такого не было. И это доказанный научный факт. Не херня.
И потому мы не обращаем внимания на обстрел, но никогда не забываем о том, что наши блиндажи если еще и выдержат попадание гуковской мины, то прямое попадание одной из высокоскоростных 152-мм болванок напрочь сотрет этот блиндаж с лица земли. Даже те, что не разрываются, уходят в землю на четыре фута.
* * *
Остатки черных хулиганов-сородичей из первого взвода расселись на корточках в полной темноте, покуривают марихуану сорта «Черный слон», хихикают как школьницы и травят байки. Выкуриваю свою долю дури, потом еще одну.
— Слушай сюда, — произношу своим знаменитым голосом Джона Уэйна. — Это не херня, пилигрим. Это правдивый рассказ о войне за независимость Юга. В общем, все эти янки-автостроители в Мотор-Сити*, все они были торчки, так? А все плантации с классной марихуаной были далеко на Юге.
Мои невидимые слушатели — чернокожие морпехи — стонут от восторга и аплодируют.
— В Детройте трава шла по пять долларов за порцию. В Атланте — за бесплатно. Для северных торчков это было что-то невообразимое.