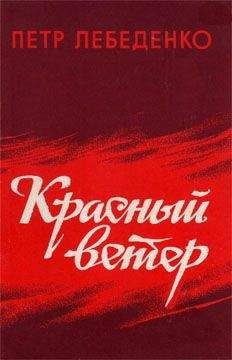По тем временам для людей, занимающих высокое положение в обществе (а молодой Вивьен де Шантом был единственным наследником крупного предпринимателя и политического деятеля), такой шаг был более чем опрометчивым. И вскоре ему пришлось убедиться в этом. Отец недвусмысленно заявил Вивьену, что у него нет никакого желания оставлять наследство сыну, который сам не знает, чего хочет от жизни. И если он в кратчайший же срок не докажет, что все случившееся считает грубейшей ошибкой, — так оно и будет. Пусть тогда бывший его сын убирается «к той голытьбе, для которой честь Франции не стоит выеденного яйца».
С тех пор Вивьен уже никогда не искал ни сильных ощущений, ни независимости. По истечении многих лет, когда среди людей его круга, стало считаться модным быть либералом, он не запрещал вспоминать о своем «бунтарстве» в молодости, вскользь, как бы между прочим, замечая: «В душе я таким и остался — истым французом, чей дух всегда ищет свободы…»
Однако это были только слова: дух де Шантома искал не свободы, а прибылей, которые он всеми средствами выколачивал из своих рабочих. А когда 6 февраля 1934 года французские фашисты из «Боевых крестов» полковника де ла Рока и «Аксьон франсэз» Шарля Морраса пытались захватить Бурбонский дворец, где заседала палата депутатов, и были разбиты не столько полицией, сколько коммунистами, Вивьен де Шантом говорил своим друзьям:
— Франция больна, и симптомы ее болезни нельзя назвать утешительными. Сегодня красные разгромили своих идеологических противников, завтра они доберутся до мае. Мы не можем не испытывать глубокой тревоги, господа…
Между тем Жанни, впервые увидев Арно Шарвена на вечере у Тенардье, уже не могла о нем не думать. И вскоре с присущей ей непосредственностью она откровенно призналась:
— Не знаю, как вы отнесетесь к моим словам, Арно, но что есть, то есть: я, кажется, начинаю испытывать к вам чувство более сильное, чем обыкновенное дружеское расположение. Вас это не пугает?
— Вы имеете в виду полковника Бертье? — улыбнулся Шарвен.
— Я имею в виду совсем другое, дорогой Арно, — ответила Жанни. — Я ведь, наверное, стану добиваться ответного чувства, а это может вас удручать.
— Добиваться ответного чувства? — Шарвен удивленно посмотрел на Жанни и переспросил: — Добиваться ответного чувства? Разве этого можно добиться, если…
— Если оно не родится само, хотите вы сказать?
— Да.
— Пожалуй, вы правы… Простите меня, Арно. Знаете, откуда у меня такая самонадеянность? Слишком много внимания, слишком много… Я, кажется, всегда переоценивала свои возможности. Еще раз прошу меня простить, Арно.
И в голосе Жанни, и в том, как она потупила взгляд, Шарвен уловил не только обиду, но и стыд. Ему стало жаль девушку, и он, взяв ее руку, поднес к своим губам.
— Не надо, Жанни… Я очень благодарен вам за откровенность. И знаете, что еще? У вас не будет необходимости добиваться ответного чувства. Оно уже родилось… Мне хорошо с вами, Жанни, очень хорошо…
Шарвену незачем было лукавить: зарождающаяся любовь к Жанни придавала его жизни особый смысл, чаще заставляла задумываться над своим будущим, чего он раньше никогда не делал. Хотя его старый друг Пьер Лонгвиль не был пессимистом, именно он говорил Шарвену: «Летчику не пристало далеко заглядывать вперед, даже если твое собственное сердце работает как часы — это еще не значит, что ты можешь стать долгожителем. Почему? Потому что твоя жизнь еще в большей степени зависит от сердца машины. Даст оно осечку — и конец…»
Конечно, сам летчик не думает о смерти — иначе он не смог бы летать. Наоборот, летчик, как, пожалуй, никто другой, верит в жизнь. Верит в нее порой безоглядно, как несмышленые дети верят в чудо. Даже когда сердце машины дает осечку и самолет, точно на лету убитая птица, падает на землю, на скалы или в пропасти, на замшелые валуны или торосы, летчик надеется. Надеется до самого последнего мгновения: вот сейчас что-то должно измениться, сейчас заревет мотор, он рванет штурвал на себя — и машина снова взмоет вверх, снова будет небо, ветер снова засвистит в крыльях, и летчик опять услышит знакомую песню полета.
Пожалуй, во всем этом есть что-то от милости судьбы: если уж летчику суждено погибнуть, он часто не успевает даже осознать, что доживает последние секунды, потому что до конца верит в свою счастливую судьбу.
Арно Шарвен всегда следовал этому правилу. Следовал до тех пор, пока вдруг не почувствовал, что вся его жизнь изменила привычное течение. Теперь Шарвен уже не мог не задавать себе тревожных вопросов: к чему приведет его крепнущая с каждым днем любовь к Жанни? Что ждет их в будущем? Что им обоим принесет завтрашний день?
Они встречались тайно от всех: или у Шарвена на улице Мулен-Вер, или в кафе мадам Лонгвиль. У Шарвена Жанни чувствовала себя спокойнее: здесь, в небольшом стареньком особнячке, ее вряд ли могли увидеть знакомые или бывшие друзья, от которых она все больше отдалялась. Арно всегда держал про запас бутылочку-другую шабли — любимого им белого вина из Бургундии. Жанни, надев фартук, начинала что-нибудь стряпать и уже через полчаса звала Шарвена к столу. Но он возражал:
— К черту цивилизацию! Давай все вот сюда!
И сам, бросив на марокканский ковер скатерку, перетаскивал со стола незатейливую снедь, шабли и бокалы. Начиналось не бог весть какое пиршество, а Жанни, смеясь, говорила:
— Мы — римские патриции. Те тоже пили и ели, возлежа на мягких, источающих запахи знойных пустынь, коврах.
Это были счастливые для них минуты. Им казалось, что весь мир заключен лишь в этой комнате и, кроме маленького особнячка на Мулен-Вер, нигде ничего не существует. Крохотный островок в необъятной, недоступной пониманию вселенной, в которой каждый миг гибнут другие миры. Другие, но не их неприкасаемый мир: здесь все вечно и незыблемо.
Было похоже, что они никогда не испытывают усталости от ласк и любви. Если бы им сказали, что придет время и они вдруг почувствуют пресыщение, и Жанни, и Шарвен ни за что в это не поверили бы. Пресыщение? Какая нелепость! Если бы у них было по сто, по тысяче жизней — и этого им не хватило бы, чтобы все друг другу отдать и все друг от друга взять…
Но однажды Шарвен спросил:
— Жанни, что нас ждет впереди? Ты когда-нибудь задумывалась над этим?
— Когда-нибудь, — ответила она, — мы с тобой умрем, Арно! Но ты не бойся: такая же участь ожидает каждого смертного. А бессмертных, к счастью или несчастью, не существует.
— Я серьезно, Жанни. Мы ведь с тобой люди, а не птицы.
— Как жаль, что мы не птицы, дорогой мой человек, — все тем же тоном проговорила Жанни. — Птицы по-настоящему свободны…
И вдруг он увидел, как в ее глазах промелькнула тень не то тревоги, не то страха.
Он коснулся ее лица ладонью, спросил:
— Что, Жанни?
— Ты о чем? — Жанни закрыла глаза и даже немного отвернулась, чтобы он не смотрел на нее. — О чем ты спрашиваешь?
— Ты знаешь: И должна обо всем рассказать.
— Так будет хуже, Арно. Пусть все, что там, — она глазами указала за окно, — проходит мимо нас. Разве нам того, что здесь, мало?
— Ты должна обо всем рассказать, — упрямо повторил Шарвен.
И Жанни рассказала.
Отец узнал об их встречах. Возможно, ее частые и долгие отлучки из дому вызвали его подозрения. Возможно, он воспользовался услугами частного шпика. Так или иначе, он все узнал. И респектабельность его, и выдержка, которой мог позавидовать любой дипломат, — все полетело к черту! Отец, выйдя из себя, топал ногами, кричал, метался по своему кабинету, с яростью отшвыривая все, что попадалось ему на пути.
— Ты… ты… — Он наступал на Жанни, припирая ее к стене, и ей казалось, что спазмы в горле не дают ему сил докончить какую-то страшную фразу.
Но, как ни странно, Жанни не испытывала ни страха перед ним, ни сочувствия к нему. Отец это видел и приходил в еще большее бешенство. А потом он вдруг как-то обмяк, тяжело опустился в кресло и рукой указал Жанни на стоявший рядом стул.
— Сядь, — глухо проговорил он. — Я скажу тебе, кто он есть, твой рыцарь без страха и упрека.
Жанни послушно села и, как бывало в детстве, когда отец отчитывал ее в этом самом кабинете за провинность, покорно сложила руки на коленях.
— Я слушаю тебя, отец.
Он начал не сразу. Собираясь с мыслями, закурил сигару и, точно рассуждая сам с собой, начал:
— Шарвены… У каждого дерева есть свои корни. И чем могучее его крона, тем глубже корни залегают… Таков закон естества. Ты меня слышишь?
— Да, папа. Я тебя слушаю.
— Род де Шантомов, — продолжал он, — это одна из нитей истории Франции. Одна из самых прочных нитей. Нет ни одного из наших далеких предков, который бы не сражался под знаменем Людовика…
— Я хорошо знаю свою родословную, папа, — заметила Жанни.