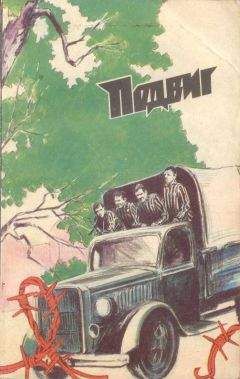Кругом было тихо и пусто. Мне стало страшно. В сентябре сорок первого я в одиночку выходил из окружения под Смоленском. Там я тоже был один, но вокруг стоял родной, с детства знакомый лес, кричали наши русские птицы, текли привычные, в пожухлых листьях ручьи. Никогда ещё не было мне так жутко, как на этой чужой, равнодушно белой земле.
Я побежал вдоль кромки льда, огибая залив. Мела лёгкая позёмка. Вода в заливе чуть рябила. «Олафа» уже не было видно. Казалось, ничего не случилось у этих тихих берегов.
Я долго бежал, подгоняемый холодом и страхом. Наконец впереди за снежной позёмкой показалась неподвижная фигура. Кто-то стоял на коленях с раскрытой книгой в руках.
Я подошёл ближе. Это был капитан Дигирнес. Перед ним распростёрся навзничь человек. Капитан молился. На снегу лежал Иенсен. Он был мёртв. Снег засыпал страницы старой библии. Капитан заметил меня, но не пошевелился, пока не закончил молитвы.
Потом мы вместе завалили тело штурмана камнями и снегом. Дигирнес был сосредоточен и молчалив; стряхнув снег, он бережно спрятал библию в прорезиненный мешок. Там лежали компас, секстант, хронометр и судовой журнал «Святого Олафа». Дигирнес записал в журнал несколько строк несмываемым карандашом. Потом медленно, так, чтобы я понял, прочёл написанное. Это было краткое сообщение о гибели корабля с упоминанием координат, даты и часа. Затем он указал место, где похоронен штурман Роал Иенсен. Капитан попросил меня расписаться вместе с ним под этой записью.
Мы двинулись дальше, обходя глубоко вдающийся в сушу залив. Мы тщательно осматривали берег, надеясь и боясь натолкнуться на кого-нибудь из своих товарищей. У кромки льда кое-где темнели маслянистые пятна, валялись выброшенные куски дерева. В заводи мирно покачивался спасательный круг с надписью «St. Olaf Tromsö». Кажется, это было всё, что осталось от нашего корабля.
Капитан угрюмо молчал, и я никак не мог решиться спросить его: кто же всё-таки дал радиограмму, приведшую нас к этому острову?
На противоположной стороне залива мы натолкнулись на остатки разбитой шлюпки с «Олафа». Мы обшарили каждый сантиметр земли и льда вокруг, но так и не нашли следов людей. Позёмка ещё не могла занести их, если бы кто-нибудь добрался до берега…
Становилось всё холодней. Промокший комбинезон не грел. Мы наломали досок от разбитой шлюпки и сложили костёр. В мешке Дигирнеса рядом с пачкой табака и трубкой оказался припасённый коробок спичек. Но доски никак не хотели гореть. Напрасно мы щепали тончайшие лучинки и, тщательно заслонившись от ветра, подносили к ним спички. Они гасли одна за другой, не успев передать своего слабого тепла мокрому дереву.
Я пошарил по карманам. Там не оказалось ничего, кроме напрочь расползшейся коробки сигарет. Я вставал, садился, снова вставал, ходил, но уже ничем не мог унять бьющую тело дрожь. Послышался шорох. Я обернулся. Капитан держал в руках судовой журнал и старинную библию Дигирнесов. Какое-то мгновение капитан как бы взвешивал обе книги, затем сунул судовой журнал обратно в мешок.
Затрещали вырываемые из библии листы. Дигирнес поднёс к ним спичку. Костёр разгорелся. От мокрой одежды потянулся парок. Капитан достал из кармана плоскую фляжку, отвинтил крышку.
— Глотните, это подкрепит вас. А что касается будущего… — Он вытащил из своего мешка отлично смазанный пистолет и несколько обойм. — Я думаю, нам удастся добыть какую-нибудь дичь.
Спирт обжёг горло, разбежался теплом по телу.
Капитан вынул карту и при свете костра показал, где мы находимся. Это был довольно большой остров в западной части Баренцева моря, километрах в трёхстах от материка. Дигирнес сказал, что нам следует идти на север к Шпицбергену — там база англичан. Но я совершенно не представлял, как мы сможем добраться туда без продовольствия и транспорта.
— Никто не знает меры сил человеческих, — сказал Дигирнес. — Капитан Роберт Вартлетт, которого я имел честь знать лично, однажды, потеряв корабль, прошёл вдвоём с эскимосом от острова Врангеля до побережья Аляски… Здесь, — Дигирнес указал на карте крошечный островок примерно на полпути к Шпицбергену, — здесь была русская научная станция. Если даже люди теперь ушли, то мы всё равно найдём там продовольствие и топливо. Это первый закон Арктики: оставлять всё для возможного пришельца. В крайнем случае мы там перезимуем. — Скажите, Дигирнес, — спросил я, — а здесь… на этом острове, никого нет?
— Это ничья земля, — не сразу отозвался капитан. — Судя по карте и лоции, здесь нет людей. Я бы очень хотел, чтобы эти сведения оказались достоверными.
На следующий день было пасмурно. Чуть таяло. Под ногами проваливался мягкий снег.
Дигирнес, сверяясь с компасом, держал направление строго на север. Он шёл быстро, чуть неуклюжей, перевалистой походкой. Казалось, он хотел как можно скорей уйти от места, где погиб его корабль.
Всё сильнее давал о себе знать голод. Почти из-под ног вспорхнула стайка каких-то птиц, похожих на небольших уток. Не боясь людей, птицы снова опустились неподалёку. Остановив Дигирнеса, я потянулся к пистолету, но капитан решительно отвёл мою руку.
— Не надо лишнего шума. Мы должны быть очень осторожны, мой друг…
Я запустил в них камнем, но, конечно, промахнулся. Птицы не спеша вспорхнули и снова, точно издеваясь, опустились на снег. Проклятые птицы ещё долго следовали за нами. Через час мне казалось, что я способен съесть всю стаю даже в сыром виде.
К вечеру снова поднялся ветер. Метель застлала всё вокруг, но капитан упрямо продолжал идти, ежеминутно сверяясь с компасом. Ветер пробирал до костей, однако всё заглушало сосущее ощущение голода.
За стеной снега ничего не видно, кроме смутно темнеющей впереди фигуры Дигирнеса. Чувство времени потерялось. Кажется, что долгие годы мы идём по этой белой равнине. Мне уже всё равно, придём ли мы куда-нибудь. Я только твёрдо знаю, что надо шагать, шагать и шагать без конца, потому что, если я остановлюсь хоть на секунду, то потом уже не смогу двинуться с места.
Внезапно наталкиваюсь на какое-то препятствие. Очевидно, я всё-таки задремал на ходу и уткнулся в спину Дигирнеса.
— На сегодня хватит, — говорит он. — Отдых.
Хочу тут же опуститься на снег, но капитан куда-то ещё тянет меня. С подветренной стороны невысокого холма он быстро разбрасывает мягкий снег. Я машинально помогаю ему. Мы опускаемся в отрытую яму. Здесь тихо. Метель проносится сверху. Дигирнес чем-то шуршит в темноте и суёт мне остро пахнущую щепотку трубочного табака.
— Пожуйте, это заглушит голод…
Я предпочитаю закурить. Дигирнес не без колебаний отрывает чертвертушку чистой страницы судового журнала. Закурив, чувствую себя вполне сносно. Только очень стынут ноги. Но Дигирнес знает, как помочь и этому. Он снимает свою куртку и накидывает её, не надевая в рукава. Мне он предлагает сделать то же самое. Застёгиваем все пуговицы на груди и засовываем ноги за спину друг другу. Получается, что мы лежим «валетом» в спальном мешке. Мои ноги согреваются у спины Дигирнеса.
— Спите… — говорит он. — Надо спать… Завтра…
Конца фразы я уже не слышу…
Проснувшись, я никак не могу сообразить, где нахожусь. Сверху навис белый снежный купол. Его намела за ночь метель. Дигирнеса рядом нет.
Я пробиваю головой потолок «пещеры».
Снова серый, пасмурный день. По-прежнему крутит вьюга. Дигирнес сидит на корточках, что-то колдуя с картой.
Болит голова. Во рту тяжёлый медный вкус. Капитан протягивает фляжку.
— Выпейте… Два глотка, не больше… Если бы у нас была пища, мы просто переждали бы метель. А сейчас надо идти. Необходимо.
От глотка спирта тело сразу становится лёгким и подвижным. Только всё время приходится думать о руках. Они двигаются как-то сами по себе, слишком резко, размашисто.
И снова нас обступает плотная стена вьюги. Когда идёшь в лесу, то держишь путь по деревьям, в поле отмечаешь расстояние вехами телеграфных столбов, в горах отсчитываешь каждый пройденный камень, а здесь ничего, ничего, кроме бьющего в лицо снега и бесконечной белой равнины.
«Сто сорок два, сто сорок три, сто сорок четыре…» — механически считаю я шаги.
Я сбиваюсь, перескакиваю через целые десятки и сотни и снова продолжаю бесконечный счёт. Ни единого звука не пробивается сквозь шум вьюги. Кажется, там за стеной метели лежит земля мёртвой тишины. Лишь изредка до сознания доходит лёгкий шорох шагов.
«…Четыре тысячи семьсот шестьдесят семь, четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь, четыре тысячи семьсот шестьдесят девять…»
И вдруг… Я останавливаюсь. Сквозь шум ветра послышался далёкий собачий лай… Нет, это наверняка померещилось. «Четыре тысячи семьсот…» Но Дигирнес тоже останавливается и напряжённо прислушивается. И снова сквозь вьюгу явственно доносится собачий лай.