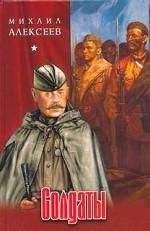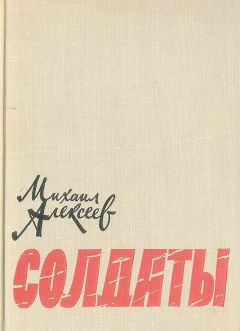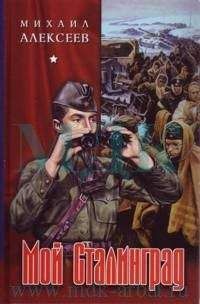– Двадцать пять лей в сутки - не слишком много, господин лейтенант. Мама Елена должна бы знать...
– Капрал Луберешти, я советовал бы вам помолчать, - испуганно проговорил Лодяну, пытаясь остановить солдата.
– Что, что вы сказали, капрал? - вдруг встрепенулся Штенберг. -Продолжайте!
– Я сказал, господин лейтенант, что двадцать пять лей - не слишком много. Вы - наш ротный. Отец солдат. И должны знать, как мы живем. Из этих двадцати пяти лей половина разворовывается начальством. Вон наш старшина уже пятую посылку домой отправляет! - Капрал, очевидно, решил идти напропалую и поэтому смотрел на офицера с отчаянным вызовом; вот с таким же вызовом глядел он в глаза полицейских во время забастовок на заводах Решицы. Лодяну хорошо помнит этого горячего, несколько необузданного электромонтера.
– А солдат получает, - продолжал капрал, - два раза в день постный суп, в котором плавает несколько бобов или кусочков сухого картофеля. Мы едим мамалыгу и хлеб, который на восемьдесят процентов выпекается тоже из кукурузы.
– Луберешти!
– Не мешайте ему, Лодяну. Пусть говорит. Продолжайте, капрал.
Лицо Штенберга потемнело. Он как бы только теперь понял, что все это значит для него, принявшего командованиее ротой. Сейчас Штенберг больше смотрел на Лодяну, чем на капрала. Выражение лица боярина говорило: "Вот до чего довели вы роту! Я могу немедленно сообщить об этом в прокуратуру, и вас обоих расстреляют. Но я не сделаю этого, потому что я добрый, хотя и недостаточно решительный, и вы должны это ценить во мне и, оценив, полюбить меня".
Лодяну понял это. Но он понял также и то, что все, чего не сделал командир роты, сделают взводные офицеры, уже не раз обвинявшие Лодяну в панибратстве с солдатами, и вновь обратился к своему земляку:
– Капрал Луберешти, вы с ума сошли!
Однако остановить солдата было уже невозможно.
– Пшеница идет для немецкой армии! - почти кричал он, зачем-то перекидывая винтовку с одного плеча на другое. - Немецкий солдат получает четыреста лей в день, а офицер - две тысячи. Немцы сидят в наших дотах, а нас вышвырнули в чистое поле, под русские снаряды и пули!
– Молчать!
Штенберг вздрогнул от оглушительного голоса. Рядом с ним, перед строем роты, стоял генерал Рупеску.
– Кто командовал этим сбродом? - грозно спросил он, показывая на замерший вдруг строй. - Вы?
– Так точно, ваше превосходительство! Честь имею представиться: бывший командир роты младший лейтенант Лодяну!
– Вы... вы - дерьмо, а не командир! - И с этими словами генерал несколько раз ударил по щеке Лодяну своей тяжелой пухлой ладонью. Он замахнулся было еще раз, но, обожженный взглядом наказываемого, опустил руку. - Судить! Обоих!
И вечером капрал Луберешти был осужден трибуналом.
Ночью его расстреляли перед строем роты.
Лодяну разжаловали в рядовые.
Случай этот, пожалуй, больше всего встревожил полковника Раковичану.
"Русские еще черт знает где, а тут творится такое, - невесело размышлял он, выкуривая одну папиросу за другой. - Впрочем, подобные маленькие неприятности в армии были и раньше. Они неизбежны". Раковичану постепенно стал успокаиваться и успокоился было уж совсем, когда в комнату почти вбежал генерал Рупеску.
– Случилось то, чего мы больше всего боялись, полковник. Русские вышли на Прут!
– Что?! - Раковичапу мгновенно соскочил с дивана, на котором собирался вздремнуть. - Что вы говорите? Не может быть! Это чудовищно! Когда они... когда они успели?
Он метнулся к окну, как бы надеясь увидеть за ним то, что могло бы опровергнуть эту страшную весть. Но за окном ничего не было видно. Горячий лоб полковника ощутил легкое вздрагивание стeкла от резких толчков, вызванных далекими разрывами тяжелых снарядов и бомб. Где-то, должно быть в деревне, жутко выла собака.
Под темневшими яблонями и вишнями в предутренних сумерках плыл сдерживаемый говорок, вспыхивали и тут же гасли красные точки папиросок. Храпели запряженные Кузьмичовы кобылы. Мишкин битюг бил копытом и шумно, тяжко дышал. В минуту особенной тишины слышно было, как лопались почки яблоневых и вишневых веток. В прохладном воздухе веяло их горьковато-кислым, едва уловимым запахом. На земле, под прошлогодней листвой, возились мыши, бегая по своим тайным тропам. Где-то в старом дупле пискнула пичуга. По всему саду мерцали драгоценными камнями холодные точки - это покрылись капельками росы только что пробившиеся из-под земли бледно-зеленые ростки молодых трав. Маскхалаты солдат тоже были покрыты росой, но не блестели в темноте, влажные и тяжелые.
– Что за страна такая Румыния? - мечтательно гудел Сенькин голос.
– Ось зараз побачим,- отвечал ему басок Пинчука, .- А если не переправимся? Может, еще куда пошлют нашу Непромокаемо-Непросыхаемую?
– Не может того быть.
– Вот и я так думаю...
– Ладно вам. Утро вечера мудренее.
– Такая поговорка, Вася, к разведчикам не подходит. У нас все -наоборот.
– В чужедальнюю сторонку, стало быть...- раздумчиво проронил до сих пор молчавший Кузьмич и глубоко вздохнул: - Бывал я в семнадцатом в здешних-то местах. Измаил, Галац... Опять же Аккерман... и... эти еще... обожди... Туртукай... Рымник... Во-во! Знакомые мне края. Тут нас германец газами потчевал...
– Уж не служил ли ты при Суворове, Кузьмич? - серьезно осведомился Сенька.
– При Суворове не служил, а по eго путям хаживал! - так же серьезно и не без гордости ответил сибиряк.
– Далече ушагаешь ты, Кузьмич, от своей Сибири. Сам Ермак Тимофеевич в такую даль не уходил. Женим мы тебя на какой-нибудь румынке да и оставим тут. Будешь мамалыгу есть...
– Не балабонь ты, Семен! Що к человеку прицепився? О дeле лучше бы сказав! - шумнул на Ванина Пинчук, которому в такие ответственные минуты Сенькина болтовня казалась совсем неуместной, хотя, как известно, в другие времена и в иных обстоятельствах балагурство Ванина ему доставляло немалое удовольствие. А сейчас он нахмурил брови, добавил глухо: - Може, кто из нас и по другой причине назад не вернется...
– Значит, боишься, Петр Тарасович?
– Не в том суть. Умирать на чужой стороне кому ж охота!..
– А мы и нe думаем умирать. Умирать будут фашисты. А мы жить будем, да еще и другим людям жизнь принесем,- откликнулся Камушкин.
– Правильные речи любо послушать! Ты, Вася, сам придумал такие разумные слова или тебе их подсказал кто? - полюбопытствовал Ванин, поворачивая свою круглую вихрастую голову в сторону Камушкина, почему-то в четвертый раз перематывавшего одну и ту же портянку.
Потом опять стало тихо. Каждый понимал, что говорил не то, что думал, сердца тревожились другим - более значительным. Нелегко расстаться с родимой сторонкой! Надолго ли? И что сбудется с каждым?..
Беспокойнее затрещали цигарки. Гасли и снова разгорались красные точки.
– Хоть бы вздремнуть!
– Пробовал, не получается.
– Да-а-а... дела...
– Дела как сажа бела. Что вздыхаешь-то?
– Ничего. Так...
– То-то же, так...
На минуту смолкли и опять:
– Пора б выступать, а лейтенанта с Шалаевым все нет.
– Придут скоро. Они зря не загуляются.
Спать никому не хотелось. Только одну Наташу почему-то сильно клонило ко сну. Зябко поеживаясь, она прилегла на повозке Кузьмича и мужественно боролась. с навязчивой дремотой. Кузьмич укрыл девушку своей шинелью. Сжавшись в комочек, она согрелась. Зато дремота теперь одолевала сильнее. Черные длинные ресницы eе часто смыкались. Разбуженная говором ребят, она испуганно приподнималась на руках, трясла головой, а потом опять куталась в шинель.
– Да спи ты, дочка,- несколько раз говорил ей Кузьмич, видя, как она мучится.- Небось разбудим, не оставим...
– Дядя Ваня, а где... Аким?
– В батальон связи пошeл. Рацию свою починить. Вернется скоро.
Вышли к реке только утром. Против румынского города Стсфанешти понтонеры уже навели мост, по которому двигались войска. Дождавшись своей очереди, переправились и разведчики. До города было не меньше километра, хотя с левого берега казалось, что он стоял у самой реки. Вокруг раскинулась ровная, ужe покрытая нежным зеленым ковром долина. На ней устроилось несколько зенитных батарей, охранявших переправу. Орудия, задрав кверху жерла, стояли безмолвные и ничем не замаскированные. Солдаты-зенитчики, закончив до рассвета земляные работы, теперь кучками, по-цыгански, сидели на разостланных плащ-палатках и с превеликим аппетитом ели вареные яйца -пасхальный подарок гостеприимных молдаванок. Всюду вокруг белела яичная скорлупа.
Разведчики немного отошли от реки и сразу, точно по команде, движимые единым и еще никогда не испытанным чувством, оглянулись назад. Теперь их глаза были такие же светлые и влажные, как вчера у Бокулея, когда он подошел к родной румынской земле. Вася Камушкин, таясь от товарищей и особенно от Ванина, незаметно провел рукой по карману. Ощутив под ладонью вишневую ветку, которую захватил с собой еще вчера, на русской земле, он успокоился, украдкой глянул на Сеньку. Но комсорг зря таился. Ванин видел, как он сломал эту ветку, и только из несвойственной ему деликатности ничего не сказал тогда. И вообще Сенька эти дни был предупредителен с товарищами и удивительно вежлив, что вовсе не вязалось с его озорным нравом. Сейчас он вместе с остальными глядел на левый берег реки. Та сторона была залита солнечным светом. Часть этого света выплеснулась и на румынский берег, и освещенная полоса все более расширялась, догоняя солдат. Не одни разведчики смотрели сейчас на покидаемую родную землю, смотрели на нее все гвардейцы. Маленький Громовой, бывший пехотинец, а теперь командир орудия из батареи Гунько, забравшись на снарядные ящики в кузове грузовика, снял шапку и размахивал ею в воздухе. Щеки солдата пылали. Русые волосы растрепал ветер. Они то и дело закрывали ему глаза. Громовой отбрасывал их рукой назад. Сам Гунько не вытерпел, вылез из кабины и, стоя на подножке, глядел на восток, на песчаные курганы по левому берегу, на приветливо белевшие и бесконечно родные домики пограничников. Смуглое лицо офицера было задумчиво-строгим. Увидев разведчиков, он помахал им рукой, крикнул: