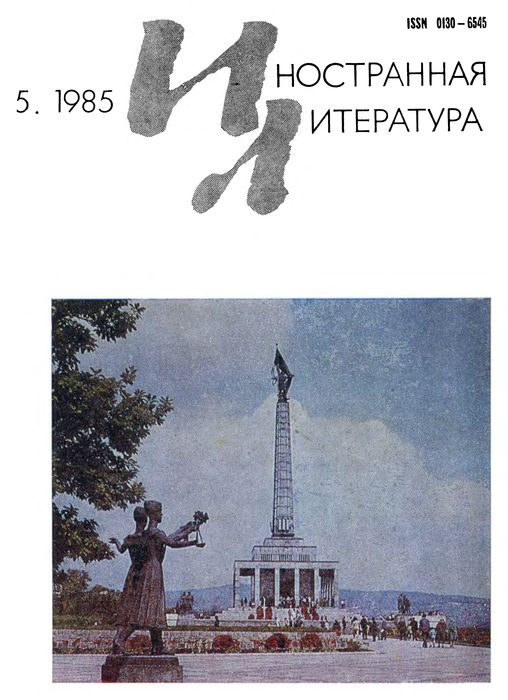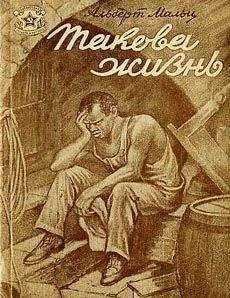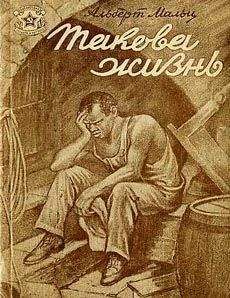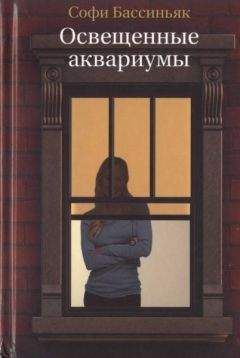до чего хочется.
— Мне тоже. И есть.
— Это надо же, забыть пайку — вот дурость!
— Зато мы живы. Даже со своей пайкой долго ты еще смогла бы идти?
— Не знаю.
И тут Клер на мгновение дала волю фантазии. Ей представилось: она бредет в бесконечной колонне полумертвых женщин вдоль заснеженных вымерзших полей. Сколько раз за последние два часа щелкали выстрелы... И как ей вообще удалось дойти до этого сарая? Пожалуй, лишь по инерции, среди других... Да еще потому, что у нее сохранилась воля к жизни. Не настолько, впрочем, чтобы донести пайку. Она бросила ее в снег, хотя Лини заклинала ее не делать этого.
— Ни в коем случае не бросай! — твердила Лини.— Хлеб — это жизнь.
— Я не могу его удержать,— отвечала она.— Руки закоченели.
— Тогда съешь.
— Есть не могу. Сил нет.
— Тогда неси. Смотри не вырони. Постарайся.
Она старалась сколько могла, но вскоре пайка вывалилась у нее из рук. Вот и другие женщины тоже побросали хлеб — единственную свою пищу на весь этот день, а может быть, и на следующий — и тем сделали первый шаг навстречу смерти... Так же как и Клер. Последние полчаса пути она уже понимала, что дошла до той крайней степени изнурения, физического и душевного, когда человеком овладевает тупое безразличие и смерть становится желанней жизни. Сколько раз наблюдала она это у женщин в Освенциме, когда они, еле волоча ноги, брели в свои бараки после целого дня полевых работ... У Клер даже мелькнула смутная мысль, что взгляд у нее совсем недавно был такой же отсутствующий, погасший, как у тех... Но теперь огонек жизни вновь разгорелся в ней, а затеплился он еще в ту минуту, когда она переступила порог сарая. Отчего же? Оттого что пока больше не надо идти... И в сене тепло... И можно поспать... А главное, вновь появилась надежда. Там, на дороге, она уже перестала надеяться, надежда покинула ее после первого же часа пути, потому что ясно ведь: рано или поздно она все равно упадет — как те, чьи тела уже темнеют на дороге. Что же это за штука такая, душа человеческая, почему надежда необходима ей, как телу — влага? Сколько людей, попав в Освенцим, теряли надежду в первые же дни — и через неделю-другую погибали, кто от чего...
Пронзительный свисток, грозный рев конвоира:
— Встать! А ну шевели задницами! На дорогу, строиться!
Лай овчарок, торопливые шаги заключенных, беспрерывное шуршание сена над головой... У беглянок перехватило дыхание. С перекошенными от страха лицами, они замерли, стискивая друг другу руки. Но вот свистки доносятся уже откуда-то снаружи.
И вдруг яростный крик:
— Ага, вон тут один прячется! А ну вылезай, жидовская морда! Отчаянный вопль на ломаном немецком языке:
— Я спаль — я нэ слихаль — я только укриваль сэном для тепло!
— Кру-гом! Эй, мразь, живо!
Им не раз доводилось слышать душераздирающие крики женщин, но чтобы так кричал мужчина... Клер зажала уши. Грохнул выстрел, и крик разом оборвался.
Конца этому нет. Хруст сена под солдатскими сапогами, хриплый лай шныряющих вокруг овчарок, злобные выкрики раскидывающих сено конвоиров.
— Вроде все. Пошли. Выбросить труп! Не дело это, чтобы доброе сено провоняло падалью!
И вот уже заскрипел под множеством ног замерзший снег.
— Он был француз! — всхлипнула Клер.— И что бы ему зарыться поглубже!
— А может, он и в самом деле заснул? Хорошо хоть, что это не тот, не наш.
Они прислушались к удаляющемуся топоту ног, к надсадному лаю овчарок, бегущих по обеим сторонам колонны.
— И как мир узнает об этом? — выговорила наконец Клер.— Как смогут те, кто в глаза не видел Освенцима, поверить, что все это и вправду было?
Они по-прежнему лежали рядом, не разнимая взмокших от пота рук.
Вот уже минут двадцать, как топот удаляющейся колонны затих, а они все ждали какого-нибудь знака от того мужчины, что прятался в сене. Наконец он дал о себе знать — довольно-таки залихватской речью:
— Порядок, девушки! Меня чуть было не насадили на штык, но вот он я, целехонек — ха-ха! Все спокойно, вылезайте и тяпните коньячку. Норберт, ты что там, заснул, старик? А ну покажись, красавчик, где ты есть?
— Слыхала? — обрадовалась Клер.— Тут еще один.
Стоя на коленях, они торопливо раздвигали над собой сено, пока не выпрямились во весь рост. Света сразу прибавилось, дышать стало легче. Тогда они поползли наискосок — все выше, выше, и вот уже головы их выпростались из сена.
— Отдохну,— еле выговорила запыхавшаяся Клер.
— Мы метра на два... — начала было Лини, но тут же удивленно смолкла: тот человек, что их окликнул, стоял рядом с бутылкой в руке, а из сена вылезали еще трое. Вертя головами, беглецы с любопытством разглядывали друг друга.
— Ха-ха! Да тут целая компания собралась! — возбужденно объявил человек с бутылкой.— С освобождением вас, товарищи! — Потом представился: — Отто Майер, к вашим услугам, девушки! Миллион лет не видел женщин. Надо же — вы такие чумазые, а для меня все равно красотки! Выпейте коньячку. Вот жареной уткой разжиться не удалось, что поделаешь. Чем еще могу служить?
— Помогите ей, пожалуйста, выбраться,— попросила Лини.— Она совсем обессилела.
Отто поставил бутылку, засунул обе руки в сено и, ухватив Клер под мышки, вытянул ее.
— Да в тебе, сестренка, и весу-то ничего не осталось, совсем мусульманка [3].
— Не называйте меня так! — сердито оборвала его Клер, но ей тут же стало совестно за свою вспышку: ведь она и впрямь страшно исхудала, так что обижаться нечего.— Извините. И спасибо, что помогли.
С покаянным видом Отто пробормотал:
— Да я это так, в шутку.
— Понимаю.
Стряхивая с одежды сено, все шестеро стали в кружок; мужчины инстинктивным движением вытащили из карманов круглые полосатые лагерные шапки и поспешно нахлобучили их на обритые головы. Растерянные, до глубины души потрясенные тем, что они на свободе, что нет вокруг ни колючей проволоки, ни охранников, они молча, с неуверенной, напряженной улыбкой разглядывали лагерные знаки друг друга — цветные треугольники, какие носили заключенные Освенцима [4]. Оказалось, что из них только одна Лини — еврейка, двое — немцы, один — поляк, один — русский, все мужчины и Клер —