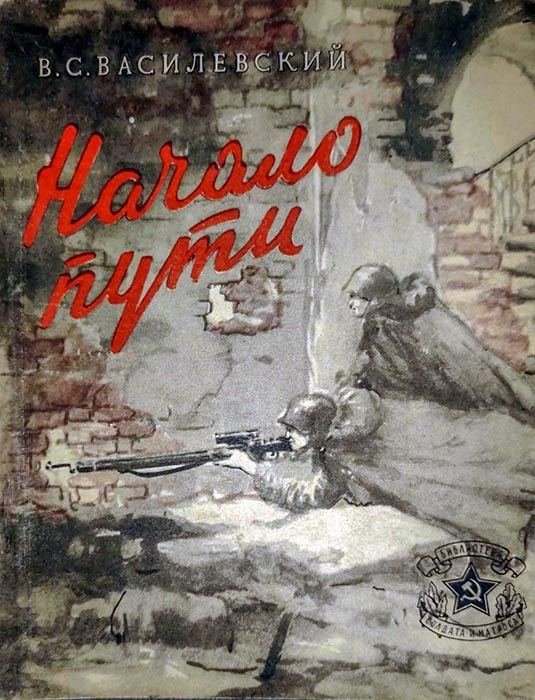светящийся в темноте белый блик. «Как бельмо». — подумал он. В этот кружок бумаги завтра утром он и будет стрелять бронебойной пулей…
Скатившись в овраг, Романцов и Курослепов возбужденно засмеялись, поглядывая друг на друга. Затем вынули кисет и курительную бумагу: трудно не курить два часа подряд.
— Состряпали пирог с начинкой! — промолвил Курослепов.
— А они не заметят?
— Полагаю, что не заметят. Зачем им осматривать землю вокруг пня?
— Иван Потапыч, а ведь мы могли бы немецкого часового в плен взять! — сказал Романцов, шагая позади ефрейтора. — Ты слышал, как он кашлял? Нам бы по ордену дали!
— Хватит тебе двух орденов, — проворчал Курослепов. — «Язык», «язык»! Завтра мы убьем знаменитого немецкого снайпера.
* * *
На рассвете Романцов приполз на свою позицию между тремя деревьями.
Курослепов лежал правее, в траншее.
Почему-то сейчас Романцову не хотелось, как в тот раз, думать о Нине, о своей любви к ней. Он думал, что скоро приползет немецкий снайпер и забьется под пень, обложенный с трех сторон броневыми щитками.
Чтобы «не засорять глаза», Романцов не смотрел на кружок бумаги, прилепленный к мине.
Изредка, как и было условлено, Курослепов стрелял из траншеи. Потом он привязал к палочке карманное зеркало и чуть приподнял его над бруствером.
И немец откликнулся. Гулко загремели выстрелы.
«Пришел, пришел», — обрадовался Романцов и вскинул винтовку.
Он теперь не боялся, что немец его заметит: вражеский снайпер стрелял по траншее, по Курослепову. Кружок белой бумаги всплыл перед его глазами с поразительной отчетливостью. Он плавно спустил курок. Бронебойная пуля пронзила мину. Взрыв был такой оглушительный, что у Романцова заныло в ушах.
Комья земли и песка падали около него на траву.
Потом что-то звякнуло о его винтовку.
Пуговица. Светло начищенная медная пуговица с выпуклой свастикой.
Это было все, что осталось от разорванного немецкого снайпера.
Романцов подышал на пуговицу, потер ее о рукав гимнастерки и спрятал в кошелек.
* * *
Романцов решил читать «Временное наставление по полевой службе войсковых штабов» после обеда — от четырех до шести: два часа, без перерыва, не слезая с нар. Он увлекся и читал до тех пор, пока тупая боль в спине не заставила его закрыть книгу.
Бесшумно ступая босыми ногами по земляному полу, он вошел к двери. Было приятно чувствовать во всем теле усталость. Он лениво потягивался.
В теплом воздухе желтое пламя спички, не колеблясь, стояло высоким узким язычком. Он выпустил через нос густую струю синеватого дыма и неожиданно вздрогнул: муравей заполз на ногу.
Вернувшись в землянку, Романцов увидел, что около его матраца стоял старший сержант Подопригора, рослый крепыш, с белорозовыми, мягкими и пухлыми щеками.
Держа в руках «Наставление», он укоризненно посмотрел на подошедшего Романцова, размашисто бросил книгу на сшитый из плащпалатки и набитый травою матрац.
— Чепухой занимаешься, Сережка! Солдат, ежели он свободен, что должен делать? Он должен спать! А такие книги для средних командиров, Для комбатов и даже выше.
Романцов миролюбиво улыбнулся.
— Я по собственному желанию.
— А твои желания перечислены в Уставе внутренней службы. — Подопригора выпятил губы: — Они должны быть подчинены воинской дисциплине.
— Дурак!
Он знал, что это неправда. Подопригора не был дураком. В мае он умело и хитро взял в плев немецкого оберефрейтора.
— Химически чистый бамбук! — Романцов сунул книгу в вещевой мешок. — Из-за таких дураков мы города и сдаем!
И эти слова были неправильные. Если бы Подопригоре приказали не отступать, он погиб бы, но не отступил.
Бойцы уже просыпались, хотя дневальный еще не объявил подъема. Иные шли в лощину к ручью умываться, другие, сочно зевая, подходили к Романцову и Подопригоре, садились рядом на нарах и закуривали.
— Я не дурак, — мерно проговорил Подопригора. — Чеши язык! Мне не обидно. В чем корень? Корень в том, что нельзя разбрасываться. В драке бить надо кулаком, а не растопыренными пальцами. Нарком приказал: изучай свою винтовку. Выполняй же этот священный приказ! А посуди, что получается, Ты не спал три часа. Значит, ночью будешь дремать на посту. Значит, ты часовой ненадежный.
— Как по нотам разыграл! — восхитился Славин.
— А у тебя, Вася, зачем в кармане комсомольский билет лежит? Чтобы членские взносы аккуратно платить? — громко спросил Романцов. — Если ты комсомолец, то всегда должен жить с плюсом. Приказ — приказом, а плюс к нему твое комсомольское желание сделать кое-что от себя. Дополнительно. От своего сердца. Ты по приказу сделаешь два шага, а я два плюс еще два. И я тебя обгоню. А ведь в бою ходят не по команде: ать-два. Ходят по присяге.
— Ты в настоящем бою еще не был, — грубо сказал Подопригора.
Бойцы заулыбались, а кто-то за спиной Романцова хихикнул. Это обидело его. Он больше всего боялся быть смешным.
— Я в атаку не ходил, — тяжело дыша, ответил он. — Моя ли в этом вина? Меня из снайперской школы выпустили в январе нынешнего года. Я три раза подавал по команде рапорт, чтобы добровольно уйти на фронт. Не пустили! Ведь меня восемь месяцев в школе учили.
— Теперь так долго не учат, — наставительно сказал ручной пулеметчик Власов.
— Нет, учат! Мой брат на двухгодичных зенитных курсах в городе Эн, — вмешался в разговор Вайтулевич. — Так и написал: я буду в городе Эн два года.
— Врешь, — хрипло сказал Власов. — Написано для агитации! Чтобы я поверил, — продолжал он, делая большие глаза, — в твои слова, если немцы в Сталинграде? Тьфу! — он плюнул и растер ботинком песок. — Глупый, неразумный ты человек! Да всякую живую душу сейчас бросают на Волгу, чтобы отбить немцев. Россия по-гиб-нет, если Гитлер через Волгу перешагнет!
— Хватил!
— Дайте человеку сказать, тише!
— Безусловно он прав.
Вернувшись с умывания, бойцы подходили к нарам, закуривали, и вскоре угрюмо молчавший Романцов оказался в плотном кольце жарко дышащих людей. Почти все красноармейцы были выше его и шире в плечах, чем он. Романцов стоял среди них, стройный и легкий, как мальчик. Сапоги его зеркально блестели. Все бойцы были в ботинках. Сапоги Романцову выдали по приказу полковника.
Он еще не понимал, почему с таким волнением, жадно ловя каждое слово, слушали бойцы этот внезапно вспыхнувший спор. Потом он подумал и понял — «Сталинград!»
— Я ночью проснусь: в груди жжет! Немец на Волге! Так бы все бросил и убежал на Волгу, сказал бы: ребята, принимайте до себя, руки винтовку держат, а жизни не пожалею!
— Что ж, Архип Иваныч, бросить Ленинград пожелал?
— Он не об этом. Мы сидим в траншеях.
— И верно, товарищи, пора бы в бой.
— Рано. Рано…
Эти