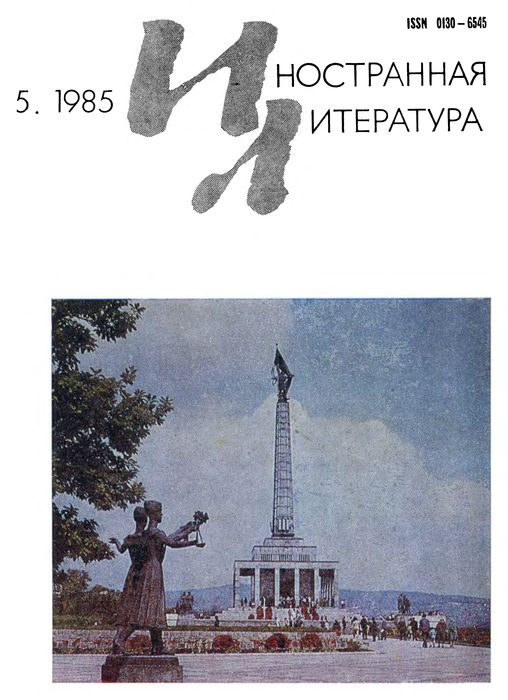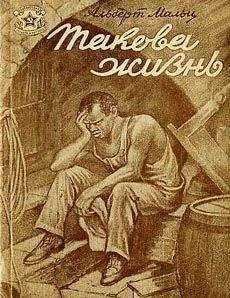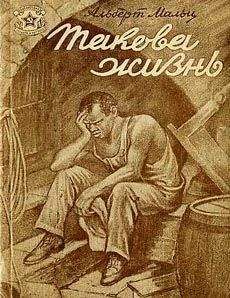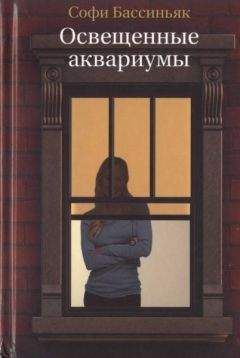сопроводительную бумажку — их прятали польские семьи. А теперь гестапо этих детей выловило, чтобы отправить в печи Бжезинки. Я смотрела на них из окна. Сердце колотилось бешено. Они были такие милые и ни о чем не догадывались. А тут у моего начальника как раз собрались на совещание гестаповцы, и мне велели выйти во двор. Заговорить с детьми я не могла — вокруг эсэсовцы с собаками. Один мальчуган лет шести держал большое красное яблоко. Такой хорошенький, славный, одет так красиво. И все играл с яблоком: покатит его по земле — и бегом за ним. Наконец гестаповцы вышли. Попрощались друг с другом и разошлись, остался только один из нашей канцелярии, некто Кресс. Стоит, смотрит на мальчика. Потом подошел поближе. Окликнул его по-польски. Малыш обернулся. Тогда Кресс наклоняется... Хватает его за ножки и с размаху как ударит о стену... Размозжил ему головку...— Клер запрокинулась, стала судорожно хватать воздух ртом.— Но не думайте, это еще не все! Яблоко гестаповец сунул себе в карман. В тот же день к нему приехала в гости жена с сынишкой. Он сажает ребенка на колени... Целует... И говорит: «А что у меня для тебя есть!..» Достает из письменного стола яблоко и протягивает своему сыну...
У нее вырвался полузадушенный всхлип, ноги подкосились.
Он уложил ее на пол, опустился рядом, горячо шепча слова утешения, гладил руки, целовал мокрое от слез лицо. Рыдания сотрясали ее. Не сразу она затихла, не сразу смогла унять слезы. Наконец, проговорила с болью:
— И тогда что-то во мне сломалось. Теперь в каждом ребенке мне будет видеться тот малыш. Наверное, у меня никогда не будет детей. Тот эсэсовец убил их во мне.
Андрей молчал. Только гладил ее, целовал в лоб.
— Теперь понимаете, да? — проговорила она едва слышно, убитым голосом.
— Клер, родная,— сказал Андрей с нежностью,— я прошел через города, где не осталось ни домов, ни деревьев, ни парков, только развалины, воронки от снарядов, обгорелые пни — и мертвецы, мертвецы. Но даже и там между треснувшими камнями пробивалась трава. Клер, пройдет время, тело ваше и душа исцелятся. Два года вы провели в таком аду, какой и Данте не мог бы привидеться. Родная моя, для вас еще ничего не кончено, все наладится, дайте только срок.
Она молчала, припав к нему вконец обессиленная.
— Милая, хорошая моя Клер,— нежно продолжал он,— будь у меня ковер-самолет, знаете, куда бы я вас перенес? Есть на берегу одной речки дорогой мне уголок. Несколько березок — под ними можно посидеть,— а кругом полевые цветы. Вода до того прозрачная — рыб видно, а в солнечный день она так и сверкает. Река все течет, течет, как сама жизнь, ничто на свете не остановит ее. И если б я мог сыграть вам там, если бы вы услышали музыку, что звучит у меня в душе, самую мою сокровенную...
Вдруг он умолк, весь напрягся.
— Что такое? — встрепенулась Клер.
— Танки! — Андрей вскочил, она и сесть не успела, как он уже был у окна.— Пока не видны, но я их слышу!
— А дорога видна?
— Только кусок. Скажите им! Скорей! Пусть все бегут к тем двум окнам. Я остаюсь здесь.
Клер повиновалась и, подхлестываемая страхом, опрометью выбежала из комнаты. Только на лестнице она спохватилась, что может упасть в темноте. Резко замедлила шаг, взялась за перила и стала спускаться — осторожно, нащупывая ногой каждую ступеньку. Двигалась она совсем не так медленно, как ей казалось со страху, но, еще не добравшись до площадки, закричала, вне себя от тревоги:
— Вставайте! Лини, Норберт! Танки! Вставайте! Скорее к окнам! Слышите? Вставайте, вставайте!
Наконец Клер спустилась, но, даже увидев, что остальные вскочили и бросились в цех, все никак не могла замолчать.
— Танки! — снова и снова выкрикивала она.— Танки! Танки!
Поднялся переполох. Все четверо поначалу расслышали только одно: «Вставайте» — и на бегу спрашивали друг друга, что стряслось. В темноте, в спешке мужчины не разобрали даже, кто кричит — Лини или Клер.
Наконец они поняли. Раздался голос Норберта:
— По дороге идут или сюда?
— Не знаю. Андрей услыхал. Скорее к окнам.
Не раздумывая, все кинулись к окнам, и опять голос Норберта:
— Но он видел их или нет? Где он сам?
— Я их слышу! — заорал Отто.
— Идут сюда! —в ужасе крикнула Лини.
— Тихо! — яростно бросил Норберт.
Еще не добежав до окон, они услышали рев множества мощных моторов, он быстро нарастал.
— Юрек! Отто! Раскройте окна! — скомандовал Норберт.— Клер, где Андрей?
— Наверху! Ему было видно...
Норберт закричал во все горло:
— Андрей! Танки идут сюда?
— Нет, по дорога. Немецкий «тигры»,— глуховато, но все же довольно явственно прозвучал ответ.
— Тебе хорошо видно во все стороны?
— Только кусок дорога. Дальше темно.
— Нам бежать в лес?
— Нет, пока танки не сюда.
— Всем оставаться здесь,— распорядился Норберт.— Я сбегаю взгляну.— И он кинулся во внутреннее помещение.
Юрек г силой распахнул окно, и их обдало холодом. Из тьмы донесся глухой удар, громко охнул Норберт — он упал, но тотчас же поднялся и с проклятьем ринулся вперед. Юрек и Отто бились над вторым окном, Отто неистово ругался сквозь зубы. Наконец окно распахнулось.
— Танки мимо! —закричал Андрей.— Уже проходили мимо наша дорожка.
Они прислушивались к оглушительному грохоту — он явно удалялся.
— А их много,— сказал Юрек. И радостно добавил:—То есть верный знак — немцы бегут.
— Господи боже мой! — воскликнула Лини.— Может, завтра уже придут русские! Нет, вы только подумайте, завтра, а?
Донесся ликующий вопль Норберта:
— Уже почти скрылись из виду! Штук двадцать, огромные, страшенные, драпают вовсю.
— Может, закроем окна,— попросила Клер.— Я закоченела.
Она без сил привалилась к Лини. Ноги ее не держали.
— Это можно,— весело отозвался Отто.— Нам тут ничто не грозит — разве только ложная тревога время от времени. Живем себе, беды не знаем. Ну и холодина, а? Хороши бы мы были, если б послушались Андрея...— Вдруг он хрипло застонал, обернулся. Уставился на Клер. Он стоял шагах в трех от нее, и в темноте она не видела выражения его лица, но сразу почувствовала: что-то неладно. Тут послышались шаги — это спускался по лестнице Андрей,— и Клер все