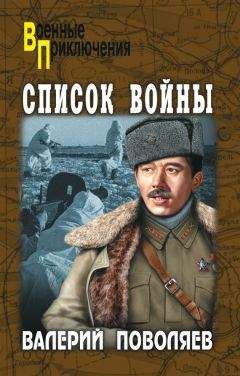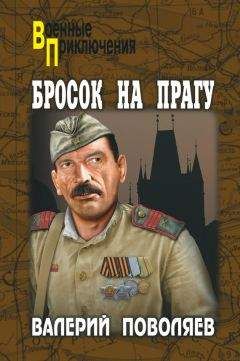Ознакомительная версия.
Был вечер, по тёмным вымороженным сугробам, наметенным у боков сарая, задвигались, запрыгали гибкие призрачные тени, накрывая сгрудившихся невдалеке баб.
Все молчали. Бормотание и хрипы в локомобильном чреве сделались громче, отрывистей. Но никто не сдвинулся с места, все так же молча продолжали стоять на своих местах, зачарованно глядя, будто людей околдовала нечистая сила, принудила это сделать, — на жилистые, испятнанные машинной грязью руки деда Елистрата, на его обмокренное словно дед только что вывалился из бани лицо. Несмотря на холод, деду Елистрату было жарко. Губы на Елистратовом лице зашевелились, запрыгали произвольно, сами по себе, глаза сжались в крохотные слезящиеся прорези, и дед неожиданно резво, будто молодой козёл, боднув головою воздух, решительным коротким движением нажал на рычаги.
В локомобильном нутре что-то взвыло возмущённо, из трубы повалил чёрный слепящий дым — он и раньше валил из железного сапога, приклёпанного к туловищу «локомобили», но не так густо и не был таким едким. Снесённый ветром, который, похоже, сторожил именно этот момент, дым погрузил людей в свою вязкую черноту, обволок их, вытемнил лица.
«Гха, гха, гха!» — закашлялся дед Петро и, мотая головой, кинулся прочь, но тут же угодил в сугроб. Не в силах выбраться, завяз в нём. Дым не отступился — деда Петра, как и остальных, снова накрыло сажевое одеяло, окутало с головой. Дедовы валенки, вылезающие из-под кромки дымного одеяла, задёргались, застучали друг о друга. Вой в локомобильном нутре тем временем перешёл в визг — словно бы борова охолащивали тупым ножом, — тяжёлая чугунная шестерня, глубоко насаженная на ось, — а ось вдета в боковину локомобиля, — вдруг, кряхтя, провернулась на миллиметр всего, потом одолела другой миллиметр, третий, затем начала медленно, словно бы заспанно, нехотя вращаться. Убыстрила свой ход и, скрипя, вихляя, вдруг закрутилась быстро, лихо, во всю свою железную прыть.
— Всё, председатель, — дед Елистрат повернулся к Шурику Ермакову, — можешь принимать работу и отправлять локомобилю на фронт. Докладай военкомату!
— Спасибо, Елистрат Иванович, — спотыкаясь не то чтобы на каждом слове, а на звуке каждом, проговорил Шурик, — огромнейшее спасибо! И вам, — он повернулся к глазачевскому наперснику старику Овчинникову, к Вениамину и Юрке Чердакову, растроганно прижал руку к груди, — и вам большое спасибо.
— Чего там! — махнул рукою бывалый дед Петро. Юрка Чердаков и Вениамин промолчали.
В колхозе имелась крупорушка. Правда, её надо было немного переделать, и тогда она бы за милую душу мельчила, растирала твёрдые зерна пшеницы и ржи. Была и собственно мельница, передвижной сарай на колёсах — неисправная, как уже знал Шурик, мукомолка. Но исправить её было делом, в общем-то, несложным, её устройство куда проще парового агрегата. Агрегат, вон как визжит! Чёртова машина. Пыхает паром, старается. Как вот только сознаться насчёт военкомата?
Небо почернело, пригнулось к земле, обвисло, вспученным пузом за дома начало цепляться. Непогода, видать, надолго поселилась в здешних местах.
Назавтра Шурик встретил деда Елистрата, по обыкновению хмурого, невыспавшегося — опять ломота всю ночь покоя старику не давала, — со слезящимися глазами, непрочно стоящего на ногах: кости отказывались держать сухое ослабшее тело Елистрата Иваныча. На приветствие Шурика он молча наклонил голову, стёр слёзы с глаз.
— Елистрат Иванович, хочу повиниться перед вами, — начал Шурик неловко, глядя себе под ноги.
— Не винись — сам всё знаю, — скрипнул по-коростелиному дед Елистрат Иваныч, — ещё вчера вечером догадался. Только скажи мне, честно скажи — зачем ты это сделал, а? Обман весь зачем, а?
Шурка торопливо рассказал о своём плане с помолом зерна для фронта и остатками отрубей для себя, для Никитовки.
— Понятно, — по-прежнему без особого восторга проскрипел Елистрат Иваныч. — Но к локомобилю ж ещё и мукомолка нужна.
— Мукомолка у нас есть, вы сами знаете. Неисправная только. Исправить её — опять Христом Богом просить буду вас. Возьмитесь за это, а? Деда Елистрат?
Старик Глазачев пожевал задумчиво губами, словно бы сомневаясь в чём-то, — а в чём сомневаться-то? Ясно ведь всё как Божий день — некому больше браться, тут сомнения прочь — вытянет он это дело, обязан вытянуть.
— Ладно-ть, — пробормотал дед Елистрат наконец, — для начала надо хоть посмотреть, что от мельничишки той осталось. Дыры небось?
— Нет, вроде бы цела мукомолка, я смотрел.
— Специялист! — в груди деда Елистрата что-то рыкнуло. — Покумекать, мозгой пошевелить надо, чтоб осечки не было, — скрипел дед Елистрат Иваныч недовольно, морща печёный, в коричневых старческих крапинах лоб, стирая солёные мутные капли с глаз — и, словно бы стесняясь их, отворачивался в сторону, стряхивал на снег, крякал досадливо.
Похрумкивая катанками по снегу, дед Елистрат Иваныч побрёл дальше по своим делам, пошатываясь из стороны в сторону, бормоча что-то про себя, окутываясь слабым парком.
Всё вроде бы хорошо складывалось, всё образовывалось — если не в этот год, так в следующий деревня с хлебом будет. И запахнет тогда печёным китом в домах, ей-ей запахнет.
И хуторе Крапивном, это в пятнадцати километрах от Никитовки, у деда Елистрата дочка Елена жила. С внучкой, тоже Еленой. Елена-младшая в лютые морозы лёгкие застудила, свалилась в страшном бредовом жару, никак не могла в себя, в сознание прийти — маялась, разметавшись в потной постели, уже несколько дней находясь между небом и землей, меж светом тем и светом этим.
Дед Елистрат, когда ему сообщили о беде, собрал мешочек трав, которые должны были Ленке помочь, раскопал спрятанную далеко поллитровую банку меда, которую, даже умирая от голода, всё равно для себя не использовал бы, накормил лошадь соломой, снятой с крыши, добавил туда несколько мёрзлых картофелин, сел в сани и уехал в Крапивный. Там он пробыл три дня, просидев всё время у Ленкиной постели, привел её в чувство, вернул с того света и, когда внучке стало малость полегче, засобирался назад. За окном уже было довольно спокойно, лишь ветер изредка поднимал у крыльца снеговые хвосты и медленно опускал их на землю.
И все же Елена Елистратовна забеспокоилась:
— Куда, папаня?
— Как куда? — проскрипел тот, посмотрел в горницу, где лежала Ленка. — Счас дело у ей на поправку пойдёт, так что ты не тревожься. Бельё почаще меняй, потому что болезнь вместе с потом выходит, чаем с медом пои. И эту вот траву вари, — он ткнул пальцами в мешочек, — пить давай по полстакана. Утром полстакана, днём полстакана и вечером столько же. Дня через три Ленка ходить уже будет.
— Всё понятно, понятно, — Елена Елистратовна слабо улыбнулась отцу, — сделаю как надо, не беспокойся. Вот только куда ты собрался?
— Домой, Лен, надо. Обязательно нужно мне в деревне быть. Я там локомобилю починил, а за нею мукомолку, вроде б работают они, но лях их знает, как дальше себя поведут. Нужно отладить до конца. Чтоб всё чин чинарём. Но денька через четыре, когда внучка на ноги встанет, я снова приеду, ещё трав привезу. Чтоб окончательно болезнь подрезать.
— Вечер же на дворе, — не отступала от своего Елена Елистратовна.
— Ну и что? Пятнадцать километров для хорошего коня, да для такого седока, как я, — дед Елистрат глянул в угол, где под рушником мерцали латунным окладом иконы, потом похлопал себя рукою по груди, — это ж раз плюнуть! Нуль без палочки. Вмиг мы этот нуль одолеем.
Дед Елистрат запряг лошадь, поправил солому, кучкой сбившуюся в санях, завалился на спину, лихо гикнул, вспомнив старое время, когда был молодым и на лошадях гонял со скоростью ветра, щёлкнул кнутом, будто из пистолета, и укатил.
В Никитовке в тот вечер он не объявился. Не объявился и утром следующего дня. Связь между деревней и хутором слабая, а если быть точнее — связи никакой, один лишь беспроволочный телеграф, так что бравого деда Елистрата не сразу и хватились.
А когда хватились, Шурик снарядил сани, взял с собою деда Петра, Юрку Чердакова, почтаря Козырева, прихватил дома одностволку, оставшуюся от отца и с той поры тщательно хранимую словно это была святая реликвия, так что ружьё находилось в порядке, хоть сейчас с ним на охоту, — и выехал из деревни.
Ветер то стихал, увядая совсем, сходя на нет, то вдруг вспыхивал с обычной силой, быстро набирая крепость, и тогда с земли поднимался мутный колючий снег, устремлялся к облакам, стегал по лицу — даже лошадь воротила от него морду в сторону и сбивалась с едва приметной твердины дороги, но Шурик решительно дергал вожжи, поправлял, лошадь делала усталый рывок, норовя вырваться из оглобель, снег накрывал её чуть ли не целиком — виднелась в такие минуты лишь неясная шевелящаяся глыба, заиндевевшая, совсем на лошадь не похожая, — но оглобли были крепкими, Шурикова рука тоже, и сани продолжали двигаться к хутору Крапивному.
Ознакомительная версия.