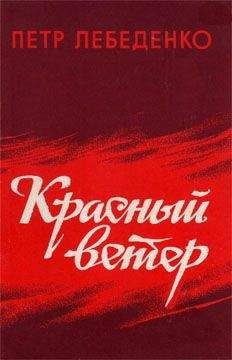Денисио охватывал взглядом все: и устремившийся к земле. — «бреге» капитана Прадоса, и «потез» француза Денена, не отстававший от «бреге» ни на один метр, и едва заметные дымки паровозов, и даже крохотные фигурки людей, в панике мечущихся по железнодорожным путям…
А потом он увидел, как полетели бомбы, сброшенные с самолетов капитана Прадоса, Франсуа Денена. Через мгновение и он сам, услышав, как Павлито крикнул: «Пошел!», открыл бомболюк. Еще через мгновение Павлито завопил: «Накрыли! Слышишь, накрыли сволочей!»
Внизу теперь все полыхало, к небу взлетали глыбы горячей земли, куски искореженного металла, сорванные с вагонов крыши и двери, вздыбливаясь, опрокидывались навзничь, маневровые паровозы. А густые, черные полосы дыма стлались и стлались по изрытой воронками земле, и все это было похоже на конец света, на катастрофу после извержения внезапно проснувшегося вулкана, в недрах которого десятки или сотни лет копились страшные силы: вот этот долго спящий гигант встряхнулся, и теперь пощады от него не жди.
…Эстрелья прильнула к иллюминатору и, не отрывая глаз, сжавшись от напряжения, со смешанным чувством боли и какого-то неестественного восторга вглядывалась в землю своей Севильи, где совсем недавно все ей было дорогим и близким и где теперь все стало чужим и враждебным. Сейчас она не думала о том, что в огне и в дыму могут гибнуть не только те, кто виновен в смерти ее отца, матери и братьев, но и люди, которые ни в чем не виноваты, — такие же рабочие, как ее отец. Не думала об этом потому, что, наверное, была убеждена: своих там не должно быть.
Нет, там, где взрываются бомбы, людей нет. Там — озверевшие двуногие существа, которых надо уничтожать. Всех до одного! Иначе жизнь на земле прекратится…
Святая мадонна, почему она, Эстрелья, не выпросила в Картахене хотя бы пять-шесть штук гранат? С каким наслаждением она швырнула бы их сейчас туда, где мечутся эти двуногие чудовища! Это ничего, что она не увидела бы, где они взорвались, главное в другом: она могла бы думать, мечтать, как осколками ее гранаты в клочья разносит какого-нибудь фашиста, продавшего и предавшего свою родную Испанию Ведь каждый раз, вспоминая ту ночь в Севилье, когда ей пришлось бежать из города, она видит застреленного ею Нарваэса, его глаза, и — пусть ее простят все святые! — ничего, кроме сладкого чувства удовлетворения, Эстрелья не испытывает. Вначале ее пугало это чувство: неужели она и сама уже озверела, неужели в ней не осталось ничего человеческого?
Но это вначале. А потом все стало иначе — слишком много Эстрелья теперь знала. Знала о том, как франкисты бросают в костры детей, если обнаруживают в их карманах пустую гильзу от винтовочного патрона; как они загоняют крестьянок в коровники и, наглухо закрыв двери, поджигают их и хохочут, слыша крики о помощи и мольбы о пощаде; как они, изрубив на куски попавшего к ним в плен республиканского летчика и затолкав эти куски человеческого тела в ящики, сбрасывают на парашюте в расположение мадридских и барселонских аэродромов…
Да, Эстрелья ожесточилась! Как раньше девушки мечтали о любви, о нежности, о песнях и музыке, так Эстрелья теперь мечтала о мести.
Снова и снова она вглядывается в землю Севильи и жалеет только об одном: все же не ее руками нанесен удар, она даже не является участником этого возмездия, просто свидетель — и все. Правда, смотреть на землю и видеть, как фашисты, будто тараканы, разбегаются по щелям и многие из них падают, чтобы больше никогда не встать, — смотреть на все это необыкновенно радостно, такое зрелище словно бы очищает душу от накипи и хотя немного избавляет ее от постоянной боли. А за это Эстрелья очень благодарна летчику Денисио: если бы вот сейчас, сию минуту, он был рядом с ней, она, не задумываясь, крепко его обняла бы и расцеловала.
Эстрелья улыбнулась своим мыслям: почему она так благодарна только летчику Денисио? А Павлито? А Вальехо? А тем, кто находится в других машинах? Разве все они сделали меньше, чем Денисио? И разве им она должна быть благодарна меньше, чем Денисио?
2
На командный пункт Эль Кармоли уже успели передать: группа капитана Прадоса успешно выполнила задание, генералы Сиснерос и Дуглас объявляют благодарность всем экипажам… И просят срочно сообщить, чей экипаж погиб в бою…
Капитан Прадос говорил Денисио:
— Погиб экипаж Труэвы. Лейтенант Труэва и его штурмана Сорилья были славными ребятами, оба — из союза социалистической молодежи. Труэва мечтал: «Как только закончится война — поеду в Советскую Россию. Хочу посмотреть Сибирь и Урал. И еще — озеро Байкал…» Я видел у него большую карту, на которой Байкал, Сибирь и Урал Труэва раскрасил красной краской. Когда я у него спросил: «А почему — красной?» — он ответил: «Я люблю красные флаги».
Потом Эмилио спросил:
— Вы не боялись, что ваша машина может развалиться в воздухе? Когда я увидел ее руль поворота, весь изрешеченный пулями, у меня потемнело в глазах. Каждую минуту я ожидал:: вот-вот произойдет катастрофа. Почему вы не вернулись?
— Никто не вернулся, — ответил Денисио.
Капитан Прадос задумался, затем сказал:
— Простите меня, Денисио, но я не все понимаю… Труэва и его друзья погибли, потому что они очень любили свою Испанию и не могли не ввязаться в драку с фашистами. Я тоже не исключаю для себя возможности однажды не вернуться с боевого задания — я испанец и также, как Труэва, люблю свою страну и свой народ. Но вы, Денисио… Вы и ваши друзья… Что вас заставило сюда приехать и подвергать жизнь опасности? Насколько мне, известно, русские летчики категорически отказываются от всяких льгот, связанных с денежным вознаграждением. Так что же? Что, Денисио?.. Вас прельщает слава?
Денисио улыбнулся:
— Слава? — Вряд ли кто-нибудь из нас о ней сейчас думает… Испанию и ее народ мы тоже любим, капитан, по, если по-честному, не это главное. Случись вот такое же, как в Испании, несчастье в Мексике, в Швейцарии или в какой-либо другой стране — мы, не задумываясь, отправились бы туда, чтобы помочь людям защитить свою свободу. Это называют чувством солидарности. Интернациональной солидарности!..
— Вы коммунист, Денисио? Или, как у вас называют, большевик?
— Да.
— А Павлито?
— Тоже.
— А генерал Дуглас?
— Конечно!
Капитан Прадос снова задумался.
— Коммунисты — особый народ, Денисио?
— Почему? Почему — особый? Если у них и есть что-нибудь особенное, то это повышенное чувство ответственности за все, что происходит в мире. Хотя… — Денисио посмотрел на Эмилио, думая о чем-то своем.
— Хотя — что? — спросил капитан.
— Скажите, капитан, если бы вы вдруг узнали, что на нашу страну напали немецкие или итальянские фашисты, и нам приходится трудно, и мы нуждаемся в вашей помощи, вы пришли бы к нам оказать эту помощь?
Эмилио ответил не сразу. Он не знал России. Почти совсем не знал.
В той среде, где он рос, о России всегда говорили, как о стране варваров. «Русские люди? Это же дикари, — утверждали все, кто окружал Эмилио. — Они убили своего монарха и разграбили все ценности, которые накапливались веками. Большевики? Святая мадонна, они строят там какие-то коммуны, где из одного котла хлебают деревянными ложками сразу сто человек! Они разрушили все церкви и храмы, а те, кто не потерял веры в бога, ушли в глухие леса Сибири и живут там в пещерах, будто на их землю снова вернулся каменный век…»
Многому Эмилио не верил. Не могли быть варварами люди, у которых были Толстой и Пушкин, Лермонтов и Достоевский. Коммуны? Да, о коммунах говорили даже те, кто не закатывал истерик при упоминании о Советской России. И говорили не в пользу тех, кто эти коммуны создавал. Но разве они видели эти коммуны собственными глазами?
И все же, многому не веря, Эмилио Прадос не питал особой симпатии к далекой и незнакомой стране: слишком непонятной она ему казалась, слишком загадочными для него были люди, населяющие эту страну. А когда он увидел первых русских добровольцев — танкистов, летчиков, пехотинцев — молодых людей с открытыми лицами, веселых, грустных, задумчивых, печальных, жизнерадостных, молчаливых, он не мог скрыть своего удивления и, если честно говорить, разочарования: уж очень они обыкновенные и ничего таинственного и загадочного в них нет. Люди как люди! И их очень просто можно полюбить даже за то, что они вот такие простые, что в них нет ничего показного и наигранного. Они и смерть принимают без позы, до конца оставаясь самими собой…
Эмилио хорошо помнил тот день — это было всего дней десять — двенадцать назад, когда на аэродром Эль Кармоли приземлился русский истребитель «чатос», весь продырявленный пулеметными очередями «фиатов». Уже по тому, как самолет заходил на посадку — то задирая, то опуская нос, раскачиваясь с крыла на крыло, — нетрудно было догадаться: летчик тяжело ранен.