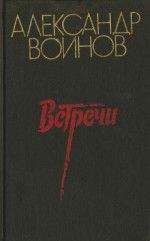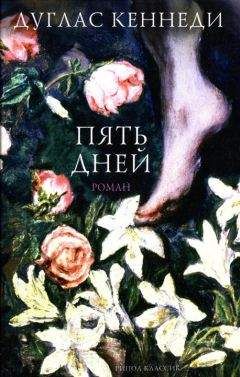Когда его ввели в дом и сдернули повязку, он понял, что здесь и есть тот штаб, где произойдет решающий разговор. Его конвоир вытянулся перед маленьким, тщедушным человеком с властными движениями, в генеральской форме, тщательно побритым и надушенным. Лицо у генерала было худощавое, черты лица мелкие, профиль острый. Он сидел, откинувшись на спинку стула, заложив ногу на ногу, и с любопытством рассматривал Силантьева, который, остановившись посередине комнаты, невольно расправил плечи, слегка расставил ноги и наклонил вперед голову, словно боксер на ринге перед началом схватки. Кроме этого маленького генерала Силантьев заметил и того генерала, у которого он уже успел побывать. Тот генерал стоял у окна в напряженно-выжидательной позе и о чем-то тихо переговаривался с полковником; у полковника была перевязана голова, и казалось, что прямо из-под белого бинта торчат два длинных черных уса.
На этот раз офицер, сопровождавший Силантьева, отступил на несколько шагов и встал у него за спиной.
— Так вы парламентер? — по-русски спросил маленький генерал, не меняя позы и небрежно играя карандашом, который держал в руках.
— Парламентер, — коротко ответил Силантьев.
— У вас есть письменные полномочия?
— Нет. Мне приказано передать вам предложение нашего командования на словах. Вот оно: или капитулировать, или быть уничтоженными — всем до единого! — Он сказал это с неожиданной для самого себя резкостью, бессознательно мстя за все те унижения, которым его здесь подвергали. Пусть этот надушенный фашист убивает его на месте, но пусть знает, что ждет его самого, если он не согласится на капитуляцию.
Однако брошенные им слова заставили генерала как-то невольно повести узкими плечами.
Другой генерал, стоявший у окна, что-то глухо пробормотал, очевидно выругался, и Силантьев убедился, что он тоже понимает по-русски.
— Какие ваши условия? — помедлив, спросил старший из генералов.
— Мы оставляем всем офицерам ордена и холодное оружие. И командиров и солдат обеспечиваем питанием и медицинской помощью.
— Еще что?
— Больше ничего… Куда вести солдат и где сдавать оружие, будет указано дополнительно.
По тому, как с ним разговаривали, Силантьев понял, что будет смешно и нелепо пуститься сейчас в объяснения по поводу того, что о ссылке и пытках гитлеровцы все врут. Перед ним были матерые враги, они сами отлично знали правду, ведь ложь исходила именно от них. Эти люди сознательно и цинично ведут свою игру, и надо говорить так, чтоб они поняли, что игра эта ими уже проиграна.
— А вы уверены, что наше положение безнадежно? — спросил генерал, стараясь сохранить спокойствие и напряженно улыбаясь краями тонких губ.
— Уверены, — ответил Силантьев. — Мы против ненужного кровопролития. Еще день, еще два, и вы сложите оружие.
Генерал развел руками:
— Но на войне иногда погибают одни, чтобы победили другие. Мы солдаты… — Он встал, отбросив ногой стул.
Сердце у Силантьева забилось.
«Примет предложение, — подумал он, — похоже, что примет».
В это мгновение в комнату вбежал, вернее, ворвался молодой, некстати нарядный офицер. В руках у него была какая-то бумага. Он был радостно взволнован и, не соблюдая никаких норм военной субординации, шагнул прямо к маленькому генералу, что-то прошептал ему на ухо и сунул в его дрогнувшие руки листок.
Генерал прочел, и лицо его слегка порозовело. Не говоря ни слова, он передал листок — очевидно, радиограмму — другому генералу, тот прочел и протянул полковнику. Словно не веря глазам, оба прочитали листок по нескольку раз и, перечитав, обменялись с командующим короткими, но красноречивыми взглядами.
Силантьев не понял, что случилось, но в груди у него тревожно заныло: уж не сумели ли враги где-то прорваться?…
Генерал помолчал, пожевал тонкими губами и взглянул на Силантьева глазами, в которых не было и намека на те колебания, которые, как показалось Силантьеву, прятались в глубине его небольших, бесцветных глаз во время их разговора.
— Так вот, господин парламентер, — сказал он жестко, хмуря брови, — передайте тем, кто вас послал, что мы будем драться до последнего снаряда, до последнего патрона, до последнего человека… Вам ясно?…
— Ясно, — сказал Силантьев.
Генерал повернулся к капитану:
— Доставьте его назад!
На этот раз проклятый капитан затянул узел так, что череп у Силантьева чуть не треснул. Он подавил стон и сам перешагнул через порог. Дверь не успела закрыться, как за спиной у него в комнате шумно и возбужденно заговорили.
Машина шла с большой скоростью. Капитан сидел рядом, но уже больше не говорил с водителем, а только сердито посапывал. Силантьев старался припомнить, какое выражение лица было у генерала в ту минуту, когда его прервал вбежавший офицер. Нет, что ни говори, а они уже готовы были сдаться… Что же случилось? Что было в той радиограмме, которую они получили? Что их так приободрило или припугнуло?
Настроение у Силантьева безнадежно испортилось. Так бы хотелось после всего пережитого прийти и доложить Чураеву, что они сдались. Так нет же — все зря. Напрасные тревоги, напрасные унижения…
Наконец машина резко затормозила, Силантьева бросило вперед.
— Снимай повязку, — сказал над ухом капитан.
Силантьев сорвал и бросил полотенце на снег. Кровь хлынула в голову, и он пошатнулся от внезапной слабости.
Силантьев огляделся. Знакомое место. Изгиб холма, откуда он начал свой путь вместе с капитаном. А там вдалеке, напротив, ветер полощет белый флаг над холмом. Ну и заждался же его, наверное, Чураев.
— Иди, — сказал капитан и небрежно махнул рукой.
— Пистолет отдай, — сказал Силантьев.
— Он будет мне на память, — усмехнулся капитан. — Иди, иди и не поворачивайся.
Силантьев вновь перепрыгнул через окоп, в котором сидели солдаты, сделал несколько шагов вниз по склону и вдруг в ярости обернулся.
— Ну, погоди! — крикнул он капитану.
Однако капитан уже успел скрыться за выступом холма, иначе неизвестно, чем бы кончился для Силантьева этот заключительный разговор.
И вот он опять идет размеренным шагом, ощущая спиной, плечами, затылком, как в него целятся враги. Теперь-то уж ничто не мешает им убить его. Но он шел и шел. И может быть, это внешнее спокойствие спасло его. Гораздо легче и завлекательней стрелять в бегущего — сразу возникает охотничий азарт: а сумею ли я поймать его на мушку!… Силантьев двигался, пожалуй, чересчур медленно, слегка переваливаясь с ноги на ногу.
Только в самом конце пути, когда оставалось всего каких-нибудь десять шагов, он вдруг сделал прыжок и буквально ввалился в окоп к Чураеву…
Ветер продолжал трепать на вершине холма забытый белый флаг, а по всему участку уже начинала нехотя расползаться перестрелка.
Что же произошло в румынском штабе? Об этом стало известно лишь через несколько дней.
Пропади ты пропадом, эта балка! Сколько тяжелых часов пережил возле нее Береговой.
Так бывает только во сне: тебе кажется, что ты уже выбрался из какого-то заколдованного лабиринта, ты с облегчением переводишь дух. Глядь — оказывается, ты на том же самом месте, откуда двинулся в путь, и никакого выхода нет.
Неужели же эта новая неудача отбросит его назад к тем страшным месяцам начала войны, о которых и вспомнить нельзя без глухой душевной боли.
Береговой не мыслил себя без армии: тогда именно он отступал. Был однажды случай, когда рука его сама потянулась к револьверу. Это случилось в отчаянные дни окружения под Харьковом, когда, казалось, уже не было другого выхода, кроме плена или смерти. Почти все командиры его штаба были убиты. Полки превратились в роты неполного состава. Четверо суток Береговой сдерживал противника, но помощь не подходила. Кончались боеприпасы и продовольствие. Измученный до предела непрерывным напряжением и бессонными ночами, он в какую-то злую минуту совсем упал духом и потерял над собой контроль. Умереть, умереть и не видеть этого ужаса! Он очнулся от ощущения боли в виске — с такой силой вдавил он в него дуло пистолета. «Что ты делаешь?… Что ты делаешь?… — закричал в нем какой-то внутренний голос. — Ты же предаешь своих людей!… Трус!»
Береговой сумел вывести остатки дивизии. При прорыве кольца окружения его тяжело ранило в бедро. И пять бойцов несли его на себе, грузного, потерявшего сознание. Очнулся он в госпитале, далеко в тылу.
После выздоровления для него начались дни и недели тягостных переживаний. Его вызвал к себе прокурор. Началось следствие о причинах, по которым дивизия оказалась в окружении.
Под суд Берегового не отдали, но месяца три продержали в резерве. Потом его послали с большим понижением на Урал — начальником обозно-вещевого снабжения.